
Текст: Андрей Мягков
Янь Лянькэ — заслуженный китайский сатирик; в его послужном списке пятнадцать романов, больше пятидесяти рассказов, несколько сборников эссе, а также пара шорт-листов Букера и премия Франца Кафки. А еще — неофициальный статус «нежелательного» автора в родном Китае; некоторые его произведения власти КНР сочли настолько неудобными, что попросту запретили, а сам Лянькэ не раз открыто признавался в самоцензуре, на которую шел, чтобы встретиться со своим читателем. Ну а то, что самоцензуре все-таки не поддалось, заботливо выходило потом в тайваньских и гонконгских издательствах. Ровно это произошло и с антиутопией «Когда солнце погасло», опубликованной на Тайване в 2015 году и уже через год получившей премию «Сон в красном тереме», ежегодно присуждаемую за роман на китайском языке. А теперь изданной «Полянрдией» по-русски в переводе Алины Перловой, благодаря чему российские читатели наконец смогут познакомиться с Лянькэ.
Тут сразу стоит сделать ремарку — Лянькэ не то чтобы запрещенный в Китае автор (есть в тамошних краях и такие), а именно что нежелательный. Никто не исключал его из Союза писателей, он до сих пор живет в Пекине и до 2006 года успел получить множество материковых премий — а потом вышел роман «Сны деревни Динчжуан», рассказывающий о том, как в 90-х в Китае организовали пункты заборы плазмы, крестьяне в погоне за легкими деньгами массово кинулись сдавать кровь — сотни тысяч человек заразились ВИЧ; этакий советский «Нулевой пациент», только в разы масштабнее. Тираж этой страшной крамолы изъяли, автор подал в суд, выиграл, даже получил гонорар — но с тех пор материковые издательства и кинокомпании предпочитают с ним не связываться, а сам автор превратился в призрака: пропал из титров кинофильмов, а из справок о переводчиках-китаистах, приглашаемых на китайские конференции, по словам Алины Перловой, организаторы изымают упоминания, что они работали над его текстами — даже «разрешенными», которые все еще можно найти в китайских магазинах. К слову, до того, как отношения писателя с властями приобрели некоторую напряженность, Лянькэ, сын бедных крестьян, успел поработать автором пропагандистских текстов в китайской армии и даже приобрел научную степень в области политологии — такая вот заметка на полях.
А что касается «Когда солнце погасло» — это, собственно, история об эпидемии сомнамбулизма в небольшом китайском городке. Уснув, люди начинают заниматься тем, чем хотели, но не решались наяву — и разумеется, это зачастую не самые приятные вещи. Роман укладывается в одну — жутковатую — ночь (главы тут буквально расписаны по минутам), а нашим рассказчиком становится умственно отсталый мальчик Няньнянь. Разумеется, мальчуган — крайне ненадежный рассказчик, он запинается и путается, из-за чего происходящее становится еще более неясным, но и более интересным для читателя.
Подливает масла в огонь и стиль, которым орудует Лянькэ: ритмичный, но в то же время с какой-то пьяной, неверной походкой; с обилием параллельных конструкций, повторов и осязаемых метафор — это очень красочная, но не избыточная проза, полная цвета и звука.
Впрочем, лучше, как известно, один раз прочитать — вот вам фрагмент.
Когда солнце погасло / Янь Лянькэ ; [пер. с кит. Алины Перловой]. — Санкт-Петербург : Polyandria NoAge, 2024. — 384 с.
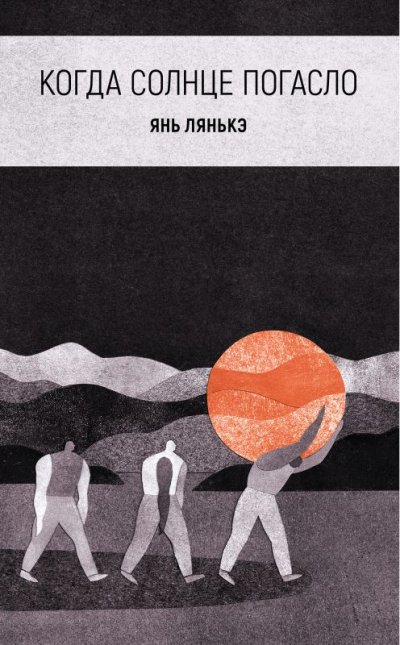
Сноброд. Сноброд, кричали дети осторожным лихорадочным шепотом. Словно боялись, что громкий крик испугает его и разбудит. Но совсем не кричать не могли, потому что радость и любопытство не умещались ни во рту, ни в сердце.
Сноброд заглатывал дорогу разинутой пастью своих быстрых шагов.
Дети рысили за ним. В нескольких шагах, чтобы не разбудить, чтобы представление не заканчивалось.
Так они поравнялись со мной.
Оказалось, это дядюшка Чжан из дома напротив нашего старого дома. Дядюшка Чжан был деревенским недотыкой, слава о котором гремела на весь мир. Не умел зарабатывать, не умел делать бизнес. За это жена хлестала его по щекам. Да еще спала среди бела дня с другим мужиком, который умел зарабатывать, — честно и открыто бегала к нему за Восточную реку. Ездила с ним в город. В Лоян, в Чжэнчжоу. Но мужику надоело с ней спать, он ее разлюбил. Расхотел. Пришлось ей вернуться домой, а дядюшка Чжан встретил свою гулящую жену и говорит:
— Умойся с дороги и садись за стол, будем обедать.
Кинулся потчевать жену, напек ей лепешек. Словом, дядюшка Чжан был самый настоящий рогач. Но теперь дядюшка Чжан снобродил. Я поднялся с крыльца магазина НОВЫЙ МИР.
— Дядюшка Чжан, — мой голос лопался, точно кукуруза. Душный горячий воздух свистел, проталкиваясь криком вперед. — Отец. Соседский дядюшка Чжан снобродит. Идет сейчас мимо.
Так я кричал, повернув голову в магазин. Отложил книгу. Соскочил со ступенек и побежал за дядюшкой Чжаном и его свитой. Догнал. Пробрался через толпу детей, словно через молодую рощицу. Пробрался и под следующим фонарем ухватил дядюшку Чжана за локоть и крикнул:
— Проснись. Дядюшка Чжан, ты снобродишь. Проснись. Дядюшка Чжан, ты снобродишь.
Дядюшка Чжан не обратил на меня внимания. Резко стряхнул мою руку:
— Дождь пойдет, пшеница сгниет на гумне, что тогда. Что тогда.
Я снова бросился за ним, схватил за локоть. Он стряхнул мою руку.
— Если зерно сгниет, жене с ребятенком кушать будет нечего, как вернутся. Жена с голодухи разбушуется и опять с кем-нибудь убежит. — Последние слова он проговорил уже не так веско — прошептал их, словно боялся, что нас услышат.
Я замер позади него. Сердце тронуло страхом, шаги поредели. Поредели, но через секунду я снова забежал вперед дядюшки Чжана и увидел, что его лицо похоже на старый серый кирпич. Спина твердая, как ствол старого вяза. А шаги сильные, будто их по очереди отбивают молотками. Глаза распахнуты, словно он и не спит вовсе. Словно уже проснулся. Только кирпичное лицо и остановившийся взгляд выдавали в дядюшке Чжане сноброда.
С городской улицы было видно, как белесые сумерки затягивают небо туманом. Приглядевшись, я заметил одну и еще одну звезду, они проступали из тумана и переливались летними светляками. Парикмахерская и галантерея. Хозяйственный магазин и магазин кухонных принадлежностей. Частный магазин одежды и государственный центр бытовой техники. Все магазины Восточной улицы стояли с закрытыми окнами и дверями. Был там кто или нет. Горел свет или нет. Одни хозяева закрыли магазины и ушли убирать пшеницу. Другие хозяева сидели и лежали в своих магазинах под вентилятором. Третьи хозяева сидели и лежали на улице, обмахиваясь тростниковым веером. Улица безмолвствовала. Вечер полнился маетой. Люди маялись бездельем. Пока дядюшка Чжан из дома напротив шагал мимо магазинов, кто-то оборачивался, смотрел ему вслед. Кто-то вовсе не оборачивался, так и говорил свое, так и делал свое.
Голоса детей — сноброд, сноброд, смотрите, сноброд — тонули в тусклой вечерней мгле. Кто-то их слышал. Кто-то нет. Кто-то услышал, а сделал вид, что не слышит. Кто услышал, выходил посмотреть, стоял у дороги, улыбался. Провожал дядюшку Чжана глазами и шел дальше заниматься своим делом. Сноброд — целое событие. Сноброд — не такое уж событие. С самого начала времен в Гаотяне каждое лето случались сноброды. Каждый летний месяц они случались. Кому какое дело, если человек заснобродил. Кто за всю жизнь ни разу, ни полраза не снобродил. Кто ни разу не ворочался в кровати, не сбрасывал на пол одеяло, не сбивал простыню. Каждый на своем веку хоть сотню раз да бормотал во сне. Кто просто бормочет, снобродит легко. А кто сначала бормочет, а потом спускается с кровати и идет по своим делам, снобродит тяжело. Человек живет на свете, стачивает сердце, каждый на своем веку хоть пару раз да снобродил, кто легко, а кто и тяжело.
И вечер оставался мглистым.
И небо оставалось душным.
Дельные люди занимались делами, бездельные бездельничали. А кто ни то и ни другое, те ни то и ни другое.
Соседский дядюшка Чжан дошел до края города. Дошел до своего поля. Дошел до своего гумнишка, которое загодя вычистил и укатал. За городом все было совсем не так, как в городе. На поле гулял ветерок или даже ветер. Вдоль дороги слева и справа тянулись гумна — маленькие, по два фэня* земли, на одного хозяина, средние, на полму земли, которые в складчину держали несколько семей, и большие гумна на целый му, оставшиеся еще со времен продбригады. Вечерняя дорога была похожа на сверкающую реку. А большие и малые гумна — на расстеленные вдоль реки озера. С большого гумна доносился грохот молотилки. С малых гумен летел скрипучий плач каменных катков, запряженных ночными лошадьми и быками. И сухой треск, с которым люди обмолачивали колосья, стуча ими по железным решеткам. Звуки сливались в плеск, словно две, три, четыре, тридцать четыре лодки качаются на озерной воде.
Небо ночью большое. А гумна маленькие. И ночь проглотила звуки. И снова появилась тишина. Фонари на гумнах светили грязным и желтым. Ступая по грязной желти, дядюшка Чжан вышел из города и двинулся на север. Дети, бежавшие за ним, больше за ним не бежали. Не бежали, остановились на краю города. А я все шел следом за дядюшкой Чжаном. Хотел посмотреть, как он наткнется на дерево. Или на телеграфный столб. Из носа у него потечет кровь, он крикнет и проснется. Я хотел узнать, что он будет делать, когда перестанет снобродить. Что скажет первым делом. Что сделает, когда проснется.
Хорошо, что его гумно было недалеко. Всего половина ли по дороге на север, и мы пришли. Дорогу отделяла от гумна канава, которая тянулась вдоль поля. Соседский дядюшка Чжан стал перебираться через канаву, поскользнулся и упал. Я думал, он проснется, но дядюшка Чжан одним махом выбрался наружу.
— Покуда мужчина жив, не даст жене с ребятенком голодать. Покуда жив, не даст им голодать.
Дядюшка Чжан не просыпался, все спал и говорил сам с собой. Он выбрался из канавы, вышел на гумно. Как по нотам. Как к себе домой. Щелкнул выключателем, висевшим на тополе у края гумна. Зажег фонарь. Убрал деревянную лопату, осмотрелся вокруг. Вытащил на середину гумна железную решетку для молотьбы. Принес сноп пшеницы. Развязал веревку. Обхватил колосья двумя руками. Постучал соломинами о землю, выравнивая колоски, и принялся молотить зерно об решетку.
Я стоял рядом. Он видел очертания каждой былинки на своем гумне, но меня не видел. Потому что меня не было в его сердце. Сноброд видит лишь те вещи и тех людей, которые есть в его сердце. Все остальные очертания и весь остальной мир для него не существуют. Решетка брызгала зернами, и они тихо свистели, взрываясь в воздухе. Запах созревшей пшеницы летел, словно с разогретой сковороды. На небе добавилось еще несколько звезд. Издалека доносились голоса людей, бранившихся за очередь на молотилку. Иногда с деревьев слетали соловьиные трели. А больше ничего такого. Все тихо и просто. Всюду исчерна-серый туман. Пот упал с лица дядюшки Чжана и схватился за лежавшие на земле зерна. Ничего такого. Все тихо и просто. Всюду исчерна-серый туман. Домолотив первый сноп, он взял из скирды второй. Ничего такого. Тихо и просто. Мне не хотелось больше смотреть. Не хотелось больше смотреть, как он снобродит.
Вот такое оно, снобродство. Выходит, люди снобродят, когда в человечьи головы залетают дикие птицы. И все там перепутывают. И человек начинает делать во сне, что ему хотелось. Делать как раз то, чего делать не надо. Я решил вернуться домой. Решил уйти с гумна дядюшки Чжана, и тут случилось то, что случилось. Будто разбилась стеклянная бутылка — бах — и случилось. Дядюшка Чжан обмолотил второй сноп и отправился за третьим. Но вместо того чтобы взять третий сноп, почему-то зашел за скирду. И оттуда выскочила бездомная кошка. Запрыгнула ему на плечо, с плеча на спину и бросилась прочь. Наверное, расцарапала лицо соседского дядюшки Чжана. Он невольно прижал ладонь к щеке. Застыл от удивления, словно мертвый деревянный столб. А спустя несколько секунд заговорил, не то объясняясь сам с собой, не то стыдя самого себя.
— Как я здесь оказался. Как здесь оказался. — Он осмотрелся по сторонам. — Это мое гумно. Как я здесь оказался. Как здесь оказался.
* Фэнь — мера площади, равная 66,6 кв. м. Десять фэней составляют один му (667 кв. м).








