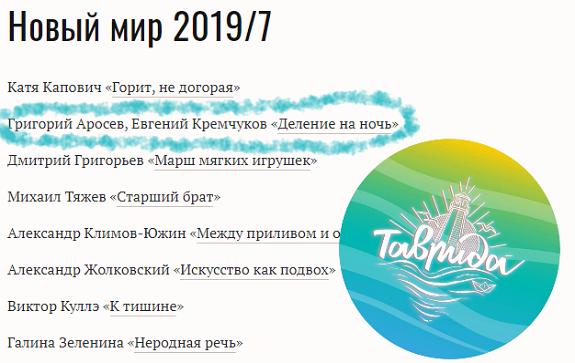Текст: Анна Токаренко (учитель русского языка и литературы, участник семинара критики литературной смены молодёжного форума «Арт-Таврида»)
Григорий Аросев, Евгений Кремчуков. «Деление на ночь». // «Новый мир». — 2019. — 7, 8
В начальной школе нас учат, что на ноль делить нельзя. «Нет ничего невозможного», - возражают Григорий Аросев и Евгений Кремчуков, а чтобы было еще интереснее, усложняют задачу метаграммой, и легким движением руки «ноль» превращается в «ночь». Каким же будет итог этой метафизической игры?
С первых строк романа читатель оказывается вольным или невольным слушателем воспоминаний, которые преподаватель философии Борис Павлович Белкин достает из облачного хранилища памяти: «Весь мой дневник <…> это восхождение к одиночеству. И вместе с тем - восхождение ко множеству».
Однако до того как с главным героем к этому множеству взойти, придется самому множество раз останавливаться, ставить текст на паузу и возвращаться к предыдущей «серии», чтобы разобраться, кто есть кто в этой полифонии. Прежде всего, кто такой Алеша - ведь именно к нему чаще всего обращается рассказчик. Ответ, а точнее начало ответа на этот вопрос находим в главе с библейским названием «И воззвал». Некто Владимир Воловских просит философа «оказать величайшую услугу Господу» и помочь ему, Воловских, в одном деликатном деле: вспомнить - именно вспомнить, а не угадать - пароль от ноутбука его пропавшего сына Алеши, некогда учившегося у Белкина. Для этого ему придется… самому стать Алексеем.
«Темно. Темно и гулко. И чуть тревожно» - эти строчки становятся лейтмотивом повествования.
Темно, потому что августовскими ночами ведет свой дневник Белкин, в «безвидное ночное море, впадающее в ночное небо» уходит сын Воловских, из мрака небытия являются героям призраки прошлого. Гулко, потому что, помимо голоса Белкина, мы начинаем слышать голос Алеши, пусть и смоделированный, но все более живой от страницы к странице. Тревожно, потому что начинается череда неслучайных случайностей, с одной стороны, дающих надежду на разгадку, а с другой, еще более запутывающих историю. Выясняется, что Белкин связан с Алешей намного теснее, чем сам думал. Еще более тревожно становится от морока сна, который окутывает то учителя, то его ученика (тот вообще, по словам возлюбленной, мог приносить вещи из сновидений). А иногда, к чему лукавить, окутывает читателя. Дмитрий Воденников в «Снах о Чуне» пишет: «Я тоже сплю. И мне снятся тревожные сны. От снов не защититься, их не избежать. Только записывать. Вот я и записываю». Герою «Деления на ночь» тоже не остается ничего иного, кроме как записывать эти странные сны, размывающие всякие границы: «Прошлое и будущее сходятся не в точке настоящего, а где угодно».
Белкин словно накладывает кальку на жизнь Алеши, пытаясь перенести стершийся рисунок на чистый лист, но, в отличие от гравюры - именно с описания гравюры Дюрера начинается роман - точные контуры здесь воспроизвести невозможно. Учитель, сам становясь соавтором, дорисовывает судьбу ученика, добавляя новые узоры на его судьбу и в конце концов сплетая ее со своей. И вот уже трудно провести грань: где речь идет о Белкине, где об Алексее, где об их странном синтезе. В тексте есть сравнение человеческой жизни с рэнга - жанром японской поэзии, когда один автор дописывает строчки другого мастера, и так до бесконечности: «Так вот… рэнга, цепочка нанизанных друг на друга строф, - прекрасная метафора для разворачивающейся во времени человеческой культуры. В которой мы, наследуя, а затем и останавливая наследство, участвуем - подозреваем мы об этом участии или нет».
«Читательному внимателю» дневника приходится постоянно останавливаться и разбираться, у кого в руках сейчас микрофон:
вроде бы это моноспектакль Белкина, но тут он спускается в зрительный зал и передает слово другим героям, затем на сцене оказывается Алексей - то ли человек, то ли голограмма, и вдруг - самое странное - рассказ продолжается от третьего лица. Кто же это - конферансье, просто читающий по бумажке порядок выхода персонажей, или сценарист и режиссер, которому уже заранее известно, что будет до самого закрытия занавеса, а может, и после него?
Прием, который выбрали для своего романа Аросев и Кремчуков (кстати, не обусловлено ли двойничество героев самим фактом соавторства их творцов - прозаика и поэта?), очень напоминает один из экспонатов Оружейной палаты - трон времен двоецарствия, который делили малолетние Петр I и Иван V. Но двойной трон на самом деле был тройным: за ним находилось тайное место для мудрых наставников. Так же и с романом: за Белкиным и Андреевым стоит кто-то еще и подсказывает героям из-за оконца, задрапированного бархатом.
Белкин и сам пытается понять роль третьих сил. «Но внутри тебя самого не существует иного образа действия, кроме того, чтобы следовать за тем, кем ты выбран. Только вот за кем же… следуешь ты, неведомый ведомый?» - размышляет философ о своем ученике, но и не о себе ли в том числе, не о всех ли людях? Всякий раз, как Белкин подходит к разгадке, появляется Черный человек, который, жонглируя евангельскими аллюзиями, дает понять, что философ вошел в чужую акваторию и лучше ему остановиться, рыбачить, так сказать, с причала, а по воде пусть ходит кто-то другой.
Если читатель играм настольным, компьютерным и политическим все еще предпочитает «Игру в бисер», то ему, возможно, будет интересно выяснить, каким же было в «Делении на ночь» делимое и каким окажется частное.
Если же нет, то вряд ли он дойдет до конца, выясняя «А был ли мальчик?», поскольку есть вероятность вместо разгадки осознать тщетность попыток: ведь «история, любая история, не может иметь финала. Она всегда неисчерпаема, работает по принципу бесконечного ряда домино…».