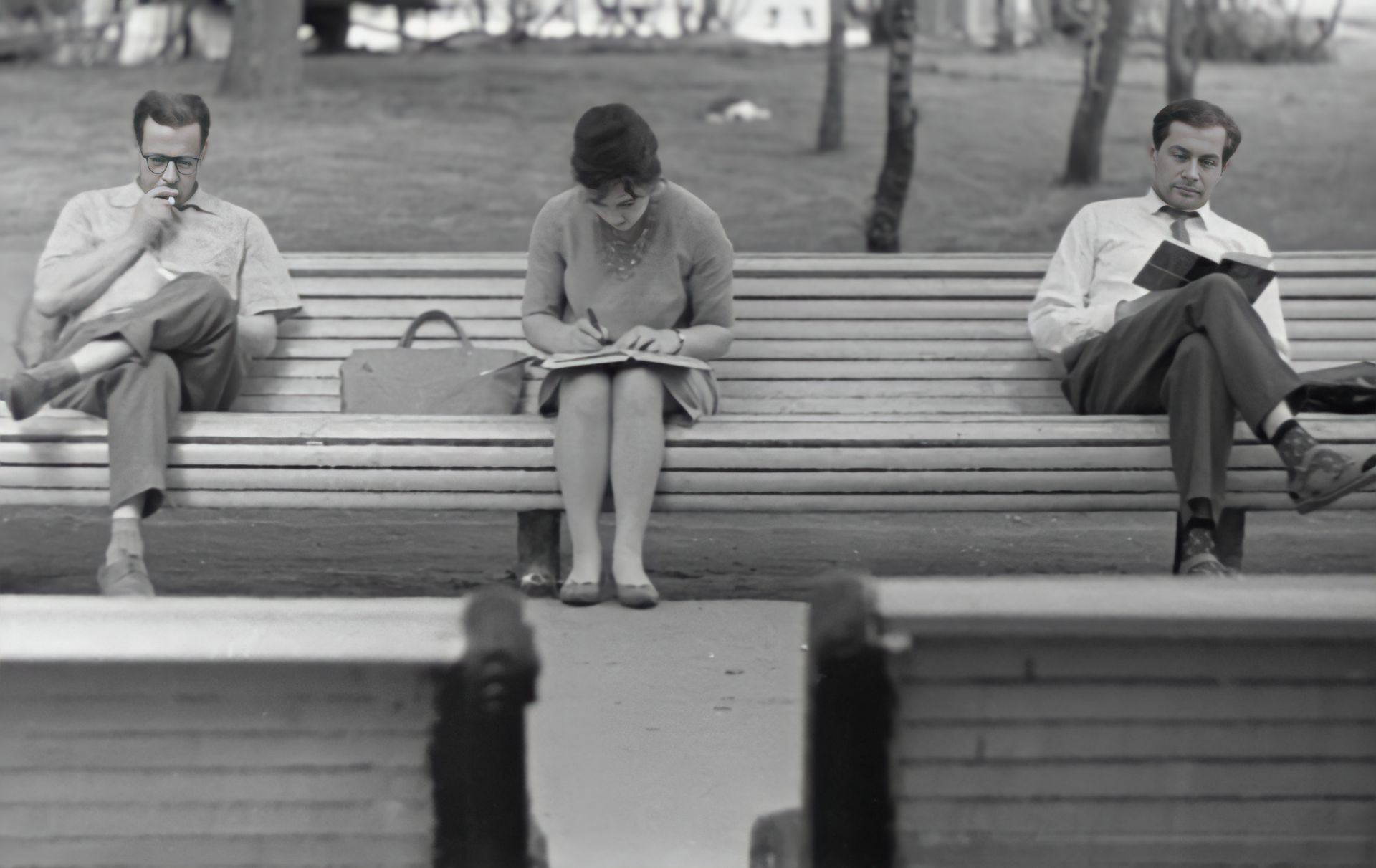Текст: Борис Кутенков
Главная новость – вернулся к работе «Журнальный зал» (на момент написания этого обзора, 23 мая, – в тестовом режиме, многие тексты и ссылки недоступны, но, безусловно, событие отрадное). Комментирует на своей странице литературный критик Ольга Девш: «Да, далеко не всё еще восстановлено в “Журнальном зале”, например, страницы “Звезды”, “Волги”, “Нового мира” — то, что рандомно я попробовала, не открываются, и архивы пока только до 2021 года включительно представлены. И я не понаслышке знаю, как непросто управлять сайтом, верстать и администрировать, тем более написанный кодом, а не собранный на конструкторе, не говоря уже о колоссальном объеме данных. Открыли не полностью выздоровевший ЖЗ, видимо, чтобы прекратить разговоры о невозвращении архива, успокоить читателей. И это правильно. Подождать не проблема, если знаешь, что работа действительно идёт. И по мере исправления всё больших кластеров будешь радоваться и читать, читать и перечитывать...»
Продолжаем читать и перечитывать. В издательстве «Альпина.Проза» вышел роман Эдуарда Лимонова «Москва майская», рукопись которого долгие годы считалась утраченной. «Демагог», «Горький» публикуют две главы из него, в которых (из анонсов) «Эд Лимонов приходит сначала на похороны “последнего футуриста Кручёных”, а потом — художника Юло Соостера. Герой размышляет о смерти, встречает Геннадия Айги, Вознесенского, Лилю Брик и других, плачет, пьёт водку и ест сырое мясо».
В новом «Зеркале» – ранее не обнародованные стихи Станислава Красовицкого из архива Михаила Гробмана. Из предисловия: «Гробман и Красовицкий близко дружили, высоко ценили стихи друг друга, что видно и из писем Красовицкого Гробману (их три: 1963 г., 1967 г. и 1994 г.), и из известных высказываний Гробмана, называвшего Красовицкого не иначе, как гением, и способствовавшего публикациям его стихов вплоть до 80-х, когда сам их автор жил уже совсем по-новому. К сожалению, ответных писем Гробмана в архиве не сохранилось…»
- Он потрогал стекло, как трогают бритву,
- И заглянул в треугольник излома.
- Вот они, черные знаки деревьев,
- и вмерзшие в небо дома и деревья,
- и сугробы домов, отдающие древним –
- Вот время застывшее, на рождество уставшее торопиться.
- Он потрогал стекло, как трогают бритву.
- И что-то случайно показалось напротив.
- КАК ХОРОШО БЫТЬ ПОЭТОМ!
- И этот рай холодных пальцев и обледеневших веток,
- которые летят налево и направо,
- туда, где профиль чьей-то женщины,
- небрежно прислонённый к раме.
«Горький» публикует отрывок из книги Александры Пахомовой о Михаиле Кузмине, вышедшей в «Новом литературном обозрении». «…на протяжении многих лет Кузмин четко выстраивал свою литературную репутацию и социальное лицо; во многом его творческий путь и есть смена репутаций и лиц, неотделимая от бурных событий эпохи…»
В «Юности» – воспоминания поэта и культуртрегера Юрия Цветкова о Татьяне Бек, Анатолии Наймане, Эдуарде Лимонове, Бахыте Кенжееве. «Я писал тогда, вспоминая ее похороны: казалось, во всем этом было что-то фальшивое, неискреннее, неестественное. Неестественной и неожиданной была сама смерть Татьяны Александровны. Знаете, бывает чувство, что это не с нами происходит. Попрощаться, а выглядело, как будто отметиться, пришла вся литературная Москва. Кого только не было! Словно кадры из светской хроники: в модных нарядах, в ярких галстуках. Сейчас, спустя годы, мне кажется, я был несправедлив к этим людям. Искаженной от боли была моя тогдашняя оптика восприятия…» (о Бек).
На «Снобе» Алексей Черников продолжает беседовать с литераторами о классиках. На этот раз – интервью с Валерием Шубинским об Игоре Северянине. «…в XX веке существует тип “гибридной” поэтики, когда пародию трудно отделить от серьезного высказывания, границы между ними зыбки. Такого много у обэриутов. Есть поэты-маски, ну хоть Пригов. Но у Северянина этого нет. Его ирония, как правило, — ирония продвинутого мещанина, тронутого “актуальной” культурой, в адрес мещан более простодушных. Еще у него есть, так сказать, кураж. Он знает, что расхваливать себя неприлично, но ему рассказали, что гению законы не писаны. И он немного этим упивается и дразнится…»
В Poetica – стихи Тура Ульвена разных лет в переводах Нины Ставрогиной:
- Время постарело на десять часов. От жары
- глаза разноцветных птиц плавятся и утекают
- по смоляной реке. У божка на ночной сетчатке
- вспыхивает новая,
- и вырванные губы льнут, как промокшие крылья,
- к последней стеклянной преграде
- перед расцветом молнии в пустыне. Дитя разоролицее
- играет с первой искрой мирового пожара.
- («Песчаная буря»)
Там же Евгения Либерман обозревает новые поэтические книги молодых авторов. О «Здесь обернёшься» Александры Хольновой: «Здесь нет скорби, она отдана живущим — Одиссею и Пенелопе, веет в раскалённой пустыне и сушит больные глаза любящих. Успокоение придёт в смирении, пропускании через себя нитей погребального одеяния: покрова царя Итаки или простого скромного тахрихина. В смерти всё встаёт на свои места». О «Заметках о взрослении земли» Валерия Горюнова: «Субъекты поэтического высказывания Валерия Горюнова, танцуя, повторяют схемы трамвайных маршрутов (во времени), контуры рек и ходы древоточцев, стержнями врастают в тёплую почву, читают по коре, листьям, создают языки текстур и молний». О «Японском боге» Стаса Мокина: «Как работает детский язык в поэзии? Обычно он выполняет две функции: 1) передача восприятия ребёнка-говорящего; 2) акцент на трагичности описываемого через форсированную наивность. Стас Мокин в сборнике “Японский бог” умело пользуется обеими…»; Максиме Плакине, Александре Цибуле и многих других.
«Лиterraтура» расспросила критиков о подводных камнях профессии. Участвуют Ольга Балла, Валерия Пустовая, Елена Погорелая, Иван Родионов, Женя Декина.
Женя Декина: «У меня высшее образование по специальности “Современная литература и литературная критика”, но статей я при этом практически не пишу. А кто-то никогда нигде не учился, а анализирует блистательно. Лучший анализ моего произведения сделан вообще профессиональным философом, который настолько поразительно все понял, что я даже усомнилась в ценности литературного образования и опыта в принципе…»
Валерия Пустовая: «Бывает, очень проницательные критики выходят из прозаиков – в силу опыта и художественного чутья. А вот нужно ли критику быть стилистом? Опять же – необходимости такой нет. Можно писать прикладно, доходчиво, доказательно, ясно – и этого будет достаточно. И все же прекрасно, когда критик строит свое высказывание как текст. Когда в тексте критика появляется свой стиль, энергетика…»
Ольга Балла пишет о посмертно вышедшей в «Стеклографе» книге прозы Сергея Костырко: «Это не совсем личный, интимный дневник — хотя по допускаемым сюда (впрочем, в тщательной дозировке) содержаниям — именно он, а многие записи датированы, и кроме того, под иными из них по-розановски указаны обстоятельства, при которых мысль была поймана и записана, по крайней мере — место поимки: “в метро”, “Малоярославец”, кофейни “Зер шеен” и “Брют”». Это и не (только и не в первую очередь) лаборатория-черновик выработки будущих текстов из повседневных событий и впечатлений — хотя по происхождению вроде бы и она. Это именно проза со своеобразным устройством и своеобразным же генезисом…»
В «Звезде» Алексей Пурин исследует стихотворение Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату»: «В Чистополе, в эвакуации, Исаковский близко сошелся с Борисом Пастернаком. На то были причины. Вот как их излагает в своих воспоминаниях поэт Евгений Долматовский <…> В этой связи стоит обратить внимание минимум на три стихотворения Пастернака, написанные в годы войны…»
В «Знамени» Ярослав Соколов пишет о книге Якова Клоца «Тамиздат: Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны» (М.: Новое литературное обозрение, 2024): «В своём исследовании Клоц подчеркивает важную деталь: тамиздат стал одним из первых глобальных литературных проектов. Он соединял советских авторов с западным читателем, разрушал старые представления о литературных жанрах, границах и национальной идентичности. Читая Клоца, понимаешь, что литература эпохи холодной войны — не просто тексты, которые удалось спасти от цензуры: эти тексты изменили саму литературу, сделав ее инструментом политической борьбы и одновременно освободив от власти национальных рамок. Это и есть главное открытие книги Клоца: тамиздат не только спасал слова, он изменил их природу, превратив тексты в универсальное оружие правды. И, читая об этом, ты уже никогда не сможешь смотреть на литературу прежними глазами…»
В новой «Волге» Елена Генерозова рецензирует книгу Геннадия Каневского «Нечётная сторона»: «Но тезис о невозможности писать стихи после Освенцима давно устарел,как бы двусмысленно это в очередной раз ни звучало. Потому что то, что надо обязательно делать после Освенцима, – это как раз писать стихи. И чем дальше, тем это очевиднее». Ольга Балла о «Фигурах и тропах» Нади Делаланд: «Как известно, поэты бывают “ясные” и “темные”, – поэты прояснения мира и поэты его непроясненности. Задача первых, как опять же известно, – говорить о том, что может быть названо, задача вторых – указывать на неизреченное (заведомо неадекватными средствами, на то оно и неизреченное; отсюда и темнота). Надя Делаланд – тот редкий случай, который в эту классификацию не вписывается. Она – поэт светящийся».
На сайте «альманах-огонь» — стихи Петра Кочеткова:
- отдана подводному цветенью
- где под землей воды подземные цветы
- чуть более чем собственнейшей тенью
- как , щурятся на Ты,
- как в зеркало, на тень от абсолютной тени
- оглядываясь, и дыша, как звери под водой,
- когда из легких голодный прозрачный дым —
- если и ты не ты, — к тебе (а ты не ты).