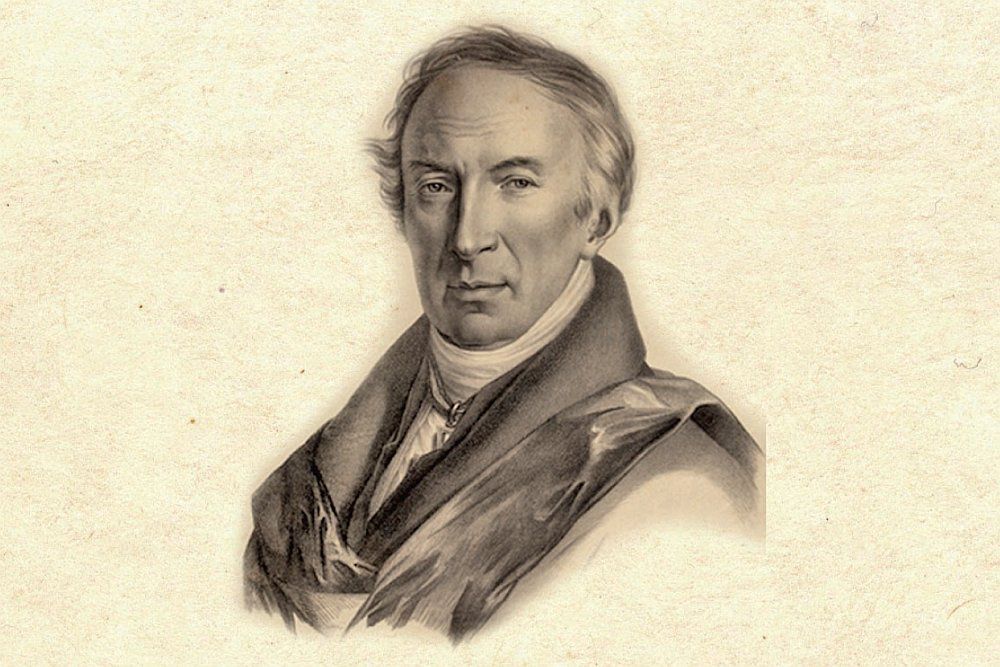Текст: Дмитрий Шеваров/РГ
Все прошлые юбилеи Карамзина предшествовали большим потрясениям. Столетие со дня рождения (1866 год) пришлось на реформы Александра II и начало народовольческого террора.
150-летие (1916 год) выпало на второй год мировой войны и канун революции.
200-летие (1966 год) отмечалось в СССР лишь узким кругом историков в условиях назревающей жесткой конфронтации с западными странами и Китаем.
Карамзину было дано столько разнообразных дарований, что для их реализации ему необходима была длинная взлетная полоса - как тяжелому воздушному лайнеру. Читая в учебниках краткую справку о классике, дети могут подумать, что разгонялся Карамзин очень плавно, спокойно и летел к цели, не зная тревог и сомнений. Но карамзинская взлетная полоса была более похожа на дорогу от райцентра до заброшенной деревни: рытвины, колдобины и запрещающий знак у самой околицы, поставленный то ли в шутку, то ли всерьез.
Драм, трагедий, конфликтов в его жизни было в избытке. Рискованное путешествие по Европе в разгар Великой французской революции. Ранние смерти (первой жены Елизаветы Ивановны, детей Андрея и Наташи). Война 1812 года - утрата семейного гнезда, "вся моя библиотека обратилась в пепел", участь беженца. А еще - грубая критика, яростное противодействие влиятельных сановников, скудость средств, нескончаемая работа, грозящая слепотой, и бесконечные болезни родных...
И все-таки его создание, его "История государства Российского" - эта воздушная громада! - вышла из одинокого кабинета, как из ангара, и вот уже двести лет каждый, кто оглянется на прошлое Отечества, - он прежде всего увидит эту гряду облаков, эти двенадцать томов Карамзина.
Улыбка Карамзина
Давно замечено, что Карамзин не дается биографам, его личность не обрела завершенных очертаний даже под пером таких исследователей, как Михаил Погодин (автор изданной 150 лет назад, в 1866 году, легендарной книги "Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников"), Юрий Лотман ("Сотворение Карамзина") и Натан Эйдельман "Последний летописец").
Николай Михайлович будто стоит за колоннадой томов своей Истории. Что ж,
Выход в свет был для него уступкой приличиям и поводом для самоиронии.
Лицеист Пушкин не раз был свидетелем того, как Карамзин собирался во дворец. "Однажды, - вспоминал Александр Сергеевич, - отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались..."
Пушкина легко представить хохочущим. Хохочущего Карамзина - невозможно.
Должно быть, в этом виноваты портреты государственного историографа. Николай Михайлович на них выглядит сановито, официально, улыбка прячется в уголках губ.
Да, Карамзин не был веселым человеком, земные скорби никогда не оставляли его, но он знал цену и доброй шутке, и приветливости. Даже отправляясь на прием к графу Аракчееву, Николай Михайлович не оставлял своей улыбки дома.
- В сердечной простоте беседовать о Боге
- И истину царям с улыбкой говорить.
С блеском исполняя эту несомненно известную ему державинскую максиму, Николай Михайлович сделал акцент на улыбке.
Улыбка Карамзина раздражала старых царедворцев с их каменными лицами. Будущим декабристам улыбка казалась слабостью, уступкой "тирану". Юный Никита Муравьев и его друзья исповедовали аскетизм, непримиримость и суровость, они не могли понять карамзинской приветливой учтивости, его располагающей к диалогу улыбки и неподдельной привязанности к царской семье. Они считали, что истина должна как камень влететь в Зимний дворец.
Неспособность оппозиции придать своей критике достойную форму заметил еще Николай Васильевич Гоголь. Свою статью он назвал: "Карамзин".
"Как смешны, - писал Гоголь, - те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет глаза теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, высказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: всё тебя выслушает, начиная от царя и до последнего нищего... И выслушает с такой любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник..."
Скольких ошибок, скольких жертв Россия могла бы избежать!
А был ли другой Карамзин?
Вокруг императора Александра всегда было немало умных, талантливых и деятельных сановников, но Карамзин был еще и обаятелен. Добавим к этому неизменное благородство, щепетильность и смирение Карамзина - и мы поймем, почему именно он стал так близок Александру I.
Всякое придворное лицедейство было Карамзину отвратительно. И смиренен Карамзин не из убеждения, что плохо быть гордым и заносчивым, а из удовольствия быть именно таким - смиренным и кротким. Так же его прямота и честность были не следствием принуждения самого себя, а природными свойствами души.
Никакой другой Карамзин в его душе не таился.
В этом, очевидно, и состоит трудность карамзинского жизнеописания - нет внутреннего конфликта, нет падений, нет поступков, которые противоречили бы тому, что Карамзин декларировал.
Понятно, что Карамзин был мишенью для завистников. Не раз чиновники в избытке патриотизма предлагали Александру историографа "запереть, а сочинения его сжечь". В 1811 году Карамзина даже обвинили в шпионаже в пользу Франции, донос об этом поступил императору.
С тех пор и до весны 1816 года Карамзин был в негласной опале. Все это время Карамзин не был уверен, что царь ждет от него окончания "Истории...", и тем более не мог быть уверен, что его труд будет издан, но продолжал неустанно работать, рассчитывая уже не на царя и не на современников, но лишь на потомков.
Почему Александр I после длительного охлаждения решил отбросить доносы и сделал Карамзина не только одним из своих ближайших советников, но и ввел его в свой семейный круг? Причины по-человечески совершенно понятны.
Бездушных исполнительных льстецов вокруг трона всегда хватало, но не было тех, кто способен понять тяжесть креста, который несет самодержец. Карамзин понимал, и это помогало найти ему верный тон в сложных отношениях с первым лицом государства. То, что в устах придворного или министра звучало бы неслыханно дерзко, у Карамзина обретало форму самую дружественную и учтивую, форму особой доверительности.
Советник Трона
Конечно, Карамзин и Александр I не только приятно улыбались друг другу. И беседовали не об одном лишь умозрительно высоком. Они горячо говорили о самых актуальных политических и экономических проблемах. Еще в 1811 году Карамзин был одним из тех очень немногих "советников Трона", кто пытался удержать Александра от военного столкновения с Наполеоном.
После войны в одном из писем Карамзин признается близкому другу, что в разговоре с царем он "не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения иль затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные". Темы, надо сказать, и сегодня - двести лет спустя! - для нас более чем актуальные. Чего стоит одно только "мнимое исправление дорог" или "министерство затмения"!
Но вот парадокс: при всей нынешней свободе и демократии мы не видим сегодня рядом с президентом самостоянья, подобного карамзинскому.
Из записки Карамзина, составленной в 1819 году после разговора с Александром I и оставленной "в наследство сыновьям":
"Я пил у Него чай в кабинете, и мы пробыли вместе, с глазу на глаз, пять часов, от осьми до часу за полночь. На другой день я у Него обедал; обедал еще и в Петербурге... но мы душою расстались, кажется, на веки... Потомство! достоин ли я был имени гражданина Российского? Любил ли Отечество? верил ли добродетели? верил ли Богу?.. Не хочу описывать всего разговора моего с Государем, но между прочим вот что я сказал ему по-французски: "Государь! У вас много самолюбия. Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. Что говорю я вам, то сказал бы вашему отцу, государь! Я презираю либералистов нынешних, я люблю только ту свободу, которой никакой тиран не может у меня отнять..."
Неудивительно, что
взял на себя все расходы и распорядился не подвергать труд Карамзина предварительной цензуре.
И вот сколь огромна разница царствований Александра I и Николая I: в 1845 году цензура долго не будет пропускать в печать "Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске в собрании симбирского дворянства"...
Что же опасного для трона оказалось в речи Погодина? Николаевской цензурой были вычеркнуты "наши вельможи", "дух республиканской свободы, великодушный в опасностях" и даже щемящее "Может быть, он хотел невозможного..."
СТРОКИ ДРУГА...
Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти?"
Александр Пушкин - Петру Вяземскому, 10 июля 1826 года.
...И НЕДРУГА
История его подлая и педантичная, а все прочие его сочинения жалкое детство..."
Павел Катенин - И.Н. Бахтину, 9 января 1828 года.
Убийство Карамзина
Вяземский вспоминал, что когда в мае 1823 года Карамзин заболел нервической горячкой, "государь всякий раз во время утренней прогулки по саду приходил к Китайскому дому, в котором жил Карамзин. Боясь обеспокоить больного, он подходил к заднему крыльцу, спрашивал прислугу, и стоял в ожидании, пока выйдет к нему кто-либо из семейства рассказать, как больной провел ночь..."
Загадочная смерть императора в Таганроге, а вскоре и его супруги, не была, думается, загадкой для историографа, с которым перед отъездом на юг император общался наедине на протяжении четырех часов. Уход царя в иную жизнь, в иночество - абсолютно карамзинский сюжет. Карамзин не мог не поддержать желание царя уйти от мира, покаяться за вольное или невольное соучастие в отцеубийстве и открыть тем самым совершенно новую, чистую главу в истории самодержавия.
Это как если бы кто-то подошел к играющим в шахматы, опрокинул доску и стал ею бить по головам шахматистов.
Он понимал, что доброго, просвещенного и справедливого царствования в России уже никогда не будет. 14 декабря Карамзин без шубы выбежал из дворца и провел на площади весь день до сумерек, до самой развязки. Пять или шесть камней упали у его ног. В полночь он с сыновьями еще раз ходил по городу, видел следы крови на снегу. Вскоре он заболел пневмонией, осложнения после которой оказались смертельными.
На Сенатской площади убили не только героя Отечественной войны графа Милорадовича. Убили Карамзина.
Возможно, самым страшным переживанием для Николая Михайловича было то, что все молодые офицеры, составившие заговор, были его внимательными и благодарными читателями. Никита Муравьев, сын бесконечно любимого и почитаемого Карамзиным Михаила Никитича Муравьева, юноша почти гениальных дарований - он в армии читал "Историю..." по ночам при лунном свете и знал ее чуть не наизусть. В октябре 1826 года он напишет жене из каземата Петропавловской крепости:
"Мой ангел, я готов ко всему, что свершится по воле Бога... Может быть, я ошибаюсь, но я верю, что не руководствовался никакой личной целью... Я прошу тебя взять Свод четырех Евангелистов, сочинения моего отца, всеобщую историю Сюгера, моего маленького Тацита и историю Карамзина..."
Орешек не сдался
Письма Карамзина после декабря 1825 года скупы на подробности. "Нелепой трагедией" он называет события на Сенатской, осуждает "безумных либералистов", но выражает надежду, что "истинных злодеев между ими не так много". О матери Никиты Муравьева пишет со скорбью и сопереживанием: "Екатерина Федоровна Муравьева раздирает сердце своею тоскою..."
Последние письма Карамзина пронизаны печалью. Из-за кулис исторической сцены вылезло чудище смуты, бессмысленного и беспощадного бунта.
"Но остался Бог, - пишет Карамзин своему старому другу Ивану Дмитриеву 22 марта 1826 года, - и моя вера к Нему та же: ...смиряюсь в духе и не ропщу. Не могу говорить с живостью: задыхаюсь. Брожу по комнате; читаю много; имею часто сладкие минуты в душе: в ней бывает какая-то тишина неизъяснимая и несказанно приятная..."
Карамзин работал до последнего дня. "История государства Российского" оборвалась на фразе "Орешек не сдавался".
Николай Михайлович скончался 22 мая 1826 года.
- * Строчка, вычеркнутая цензурой из речи М.П. Погодина на открытии памятника Н.М. Карамзину в Симбирске в 1845 году.
ЗАВЕЩАНИЕ
"Думая более о людях, нежели о формах..."
В 1811 году, завершая свою "Записку о древней и новой России", вызвавшую раздражение Александра I, Карамзин писал: "Благоразумная система государственная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкоконечного бедствия, но благодаря Всевышнего сердце мое им не верит, - вижу опасность, но еще не вижу погибели!.. Если Александр будет осторожнее в новых государственных творениях.., думая более о людях, нежели о формах.., дороговизна мало-помалу уменьшится.., колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, ход вещей сделается правильным, постоянным; новое и старое сольются в одно... Увидим ясное небо над Европой..."
Может быть, он хотел невозможного?
Источник: rg.ru