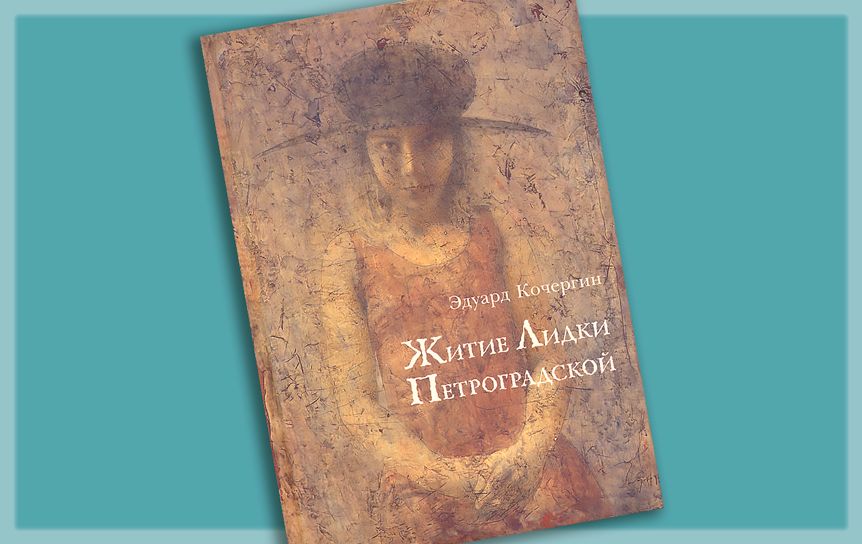Текст: Сергей Князев
Нельзя сказать, что выдающийся отечественный сценограф, главный художник Большого драматического театра вот уже на протяжении полувека (из своих 85), Эдуард Кочергин, дебютировавший в литературе на седьмом десятке, все время пишет одну и ту же книгу; но каждый его последующий сборник вырастает из предыдущих. Вот и в книге «Житие Лидки Петроградской» есть история, восходящая к роману в рассказах «Крещенные крестами», за который автор был удостоен премии «Национальный бестселлер», и дебютному сборнику «Ангелова кукла»: в привычной читателю Кочергина сказовой манере, с обилием диалектизмов и просторечных словечек и оборотов, повествователь вспоминает о том, как малолеткой-беспризорником во время скитаний по Уралу и Сибири едва не лишился ног и как был спасен местной целительницей.
Фрагмент книги Эдуарда Кочергина «Житие Лидки Петроградской» публикуется с разрешения издательства «Вита Нова».
В гостях у Бабоньки Яги.
Из пространства времени
Замечательному доктору — Татьяне Николаевне Новиковой
- Противным лечат,
- А сладким калечат.
- В. Даль
В давнишнем малолетстве мои ныне болящие ноги обморозились в уральской земле, по пути из Челябинской области в соседнюю Свердловскую. На некой небольшой станции поезд, на котором я пересёк границу областей, наконец-то остановился. И я, застывший «заяц», попытался слезть с подножки своего закрытого вагона, к поручам ступеней которого мне пришлось прикрепиться ремнём, чтобы в забытьи не сорваться по дороге. Со временем, под ритм движения состава, я, вероятно, забылся и коротко заснул. На остановке, отстегнувшись от поручей, я обнаружил, что не могу слезть на стылую землю из-за ног. Они словно отделились вдруг от моего тулова и стали ватными. Господи, что такое случилось с ними? Поначалу я не понял, в чём дело, отчего они у меня онемели. Затем смекнул: пока я, привязанный к поручам, кемарил, ноги замёрзли, и буквально на руках пришлось мне сползти с подножки вагона на землю. С онемевшими ногами и болью встать в рост я не смог, оттого с огромным трудом, червяком, пополз по снегу к вокзалу.
Интересно: когда на прошлой станции я взбирался на подножку вагона, двери всего состава были заперты наглухо и в него никто из людей не входил и не выходил. Отмычки мои не годились к вагонным замкам, и проникнуть внутрь его я не смог. Да и все окна змеи-состава оказались абсолютно тёмными. Но мне необходимо было срочно покинуть Челябинскую область — там меня, беглеца, уже искали.
Задачу пересечь границу я выполнил, став собственностью иной территории. Я не предполагал, что состав без остановок будет идти так долго, и не знал, что он пустой. Короче, оказался пленником этого странного эшелона. Ещё интересно, что поезд мой поднимался всё выше и выше в горы и оттого, вероятно, становилось всё холоднее и холоднее. Отъехал я с осенней станции Челябинской области, а приехал в зимнюю, замороженным, вот такая беда произошла со мной.
Итак, до крыльца станции я дополз червяком, на руках и на пузе. Там, на ступеньках вокзала, какая-то тёточка-бабулька с испугом окрикнула меня:
— Ты что, пацанёнок, змеёй-то по снегу ползёшь али что случилось с тобою?
Она открыла двери вокзала и втащила меня в тепло. Небольшое помещение станции показалось мне сплошь забитым серой людвой. Почти все человеки спали на своих пожитках, многие из них храпели. Тёточка-бабуся, перешагнув нескольких спящих людишек, растормошила здоровенную деваху, завёрнутую в пуховый платок, видать, свою дочь, строго приказав ей помочь-пожалить застывшего малька:
— Евдоха, надо подмогнить бы, не то без помочи у него ножки отпадут. Дед-то сейчас на кобылке Ташке подъехать за нами должен, заберём с собой малька, вишь, он ничейный и не говорит даже совсем, только зенками моргает. Смотри-тко, как ножки у него обледенели, даже не чует их. Как он с тёмного поезда-то скатился? Зайцем, видать, на подножке торчал и застыл по дороге. Чего молчишь-то? Беда ведь, а молчишь? Старый хрен, бурундук* (Бурундуками называли уральских насельников жители соседних областей. — Авт.) наш, что-то опаздывает... Видать, к Захарию Ивановичу завернулся да с его самогону пробу снимает, собутыльничает. Вот ведь седая сатана! Евдоха, подними штанцы мальчишке да ладошками растирай посолонь его культяпки, только по первости ласково, чтобы кровь помалу двигать.
Минут через двадцать явился «бурундук» — невысокий, жилистый старик в овчинном полушубке, колхозный конюх.
— Ну что, чурило старое, обещал поезд из города встретить, а сам по новой нализался с дружком Захаркой-бражником. Домой лошадь доведёшь аль нет? Чего немого-то косишь?
Он затряс головой.
— Ну что, образина, шевелись давай теперь. Застывшего пацанёнка спасти надоть. Стащи его руками в телегу, возьмём на время к себе в дом. Сиротный он или беглый с казёнки к нам попал. Ты с ним поаккуратней, вишь, ножки у него отмороженные отвисли. Порадей, булдыга старая!
Дед взял меня своими узловатыми ручищами конюха в охапку и вынес во двор станции к телеге. На телеге завернул в меховой тулуп и уложил на покрытое сеном днище. Бабка с дочерью уселись по обе стороны от меня, поставив в головах плетёные из ивняка корзины и холщовые узлы. Дед, не произнёсший ни одного слова, вдруг неожиданно велел укрыться всем седокам, а все пожитки рогожей прикрыть. По дороге ветрено, не дай бог пурга начнётся!
Станционный посёлок оказался небольшим, вскоре выехали мы из него на засыпанную снегом дорогу и двинулись далее навстречу ветру. Нам здорово повезло: усилившийся ветер со снегом застал нас уже подле их деревни. Мы, слава богу, успели въехать в огороженную частоколом небольшую усадьбу старшего колхозного конюха.
В избе старуха-мать велела дочухе скорее поставить самовар и растопить печь, а старику своему, Пантюхе, принести в избу поболее дров для запасу. Меня же уложила на скамью подле окна и, прикрыв мои ноги ватником, прохрипела:
— Терпи, малёк, ноги твои спасать нашим деревенским способом с помощью бурёнок придётся, — и побежала через сени в хлев.
Спустя малое время вернулась в избу с большой глиняной миской, наполненной свежим, ещё дымящимся навозом от тёлки, и с каким-то длинным свёртком старых пожелтевших газет. Достала из-под русской печи небольшой медный таз и, дождавшись кипящего самовара, налила в таз кипяток, развернув аккуратно газетный свёрток, вынула из него какие-то большие тёмные зелёные сухие листья и бросила их в таз с кипятком. На скамью за моими ногами поставила таз с листьями, а на подоконник надо мною выставила миску с навозом. Затем на скамье в ногах расстелила кусок холста и стала вынимать из таза большие горячие листья, похожие на лопуховые, и расправлять их на холсте своими длинными костлявыми пальцами, приговаривая что-то непонятное на уральском наречии, повторяя множество раз: «Хив, чив! Згин, згинь! Жу, жу! Згин, згинь!»
Своей великовозрастной дочери велела отщипнуть от полена широкую щепу и дать ей в руки. Этой щепой из глиняной миски стала черпать телячий навоз и намазывать его на расправленный лист лопуха. Увидав мои расширенные зенки, смотревшие с испугом на такое, успокоила меня: — Не бойсь, пацанёнок, это всего лишь обыкновенный лопух. Своей здоровенной Евдохе приказала скинуть с меня «срачицы», так она обругала мои казённые детприёмовские штаны. Опосля взяла из дочухиных рук огромные портновские ножницы и ловко стала отрезать холстины в размер лопухов, накладывая их поверх обмазанных навозом листьев. Сотворив таким образом шесть компрессов, бабулька с дочкой обернули мои ноги в это сильно пахнущее чудо-юдо, поверх компрессов крепко запеленали их узкими старыми тряпками вместо бинта, которого, естественно, не имели, и дали мне в руки внушительную глиняную кружку горячего чая, заправленного мёдом и ещё чем-то из тёмно-зелёной бутыли. К чаю вручили ломоть пирога с картошкой, очень кстати, так как я более суток ничего не ел. По окончании питательного угощения на большом, видавшем виды хозяйском ватнике отнесли меня в хлев. Там приказали полностью опорожниться из их рук прямо среди скота и по деревянной приставной лестнице подняли вдвоём на сеновал.
— Спать станешь на медвежьей шкуре, а покрываться козьим тулупом, слышишь?! холодно не будет, — отрубила старая хозяйка. Как только положили меня на шкуру медведя, головка моя сильно закружилась, видать, в зелёной бутыли было что-то пьянское, и я почти сразу провалился в тартарары. Спал я тяжко. Ноги мои горели. Снилось мне, что каким-то образом меня, беззащитного, захватила Баба яга, привязала к лежанке своей адской печки толстыми верёвками и кипятит в медном чане опущенные в него с лежанки мои забинтованные ноги. Сама же отвратительно хрипит, кряхтит и чмокает огромным ртищем, пританцовывая на толстых досках пола своей иззёбки* (Иззёбка — маленькая изба (сибирский диалект). — Авт.), держа в волосатых лапах-ручищах берёзовые чурки, стуча ими в такт, приговаривая ведьмины вирши:
Гори, гори ярко,
Гори, гори жарко,
Кипи, вода, круто,
Вари, вари ноги
На моём пороге.
Ух, ах, череган, сукман.
Ух, ах, тарабах, бабах.
Я из последних сил пытался выпутаться из верёвочных уз яги, чтобы вытащить из чана свои ноги, но у меня ничего не выходило. С отчаяния стал просить матку Боску помочь мне освободиться от пут ведьмы:
— Боженька, любимая матка Боска, избавь меня от Бабки яги, дай возможность вытащить мои бедные ноги из горящего чана. Нестерпимо больно мне, матка Боска! Помоги, Христа ради! — и вдруг, после такого моления к Божией матери, я проснулся в сеннике над хлевом. Подо мною корова жевала, чавкая, сено, внизу слева на насесте ворчали куры, и где-то справа храпела свинья. А ноги мои пелёнатые горели со страшной силой.
Проснулся я, видать, к утру, но ещё было темновато. Внизу в коровник вошла моя целительница, бабулька, видимо, с керосиновой лампой — в щелях замелькал свет и возник запах керосина. Она принялась доить свою кормилицу, отгоняя тёлку, обругивая её бессовестной дылдой, — очевидно, та пыталась опробовать парного молока от своей мамки. Отдоив корову, бабка зашла с ведром молока в сени и громко крикнула дочку, наказав ей снять меня с сеновала и отнести в баню, отец Пантюха уже стопил её. Дочка, поднявшись по лестнице на сеновал, схватила меня под мышку левой руки, как какой-то свёрток, приказав не шевелиться, спустилась со мной по лестнице и перенесла через заснеженный двор в малую чёрную избушку — баню. Там разложила, как куклу, на осиновой скамье вверх тормашками и взялась снимать с моих ног вчерашнее врачебное безобразие. К приходу матушки в баню она освободила меня от коровьих компрессов, выкинув их в окошко бани, и я, оглядев свои раздетые, густо-красные ноги, вспомнил приснившуюся мне ночью Бабу ягу с медным чаном кипящей воды. Мать-бабуля, войдя в баню, попросила дочку набрать деревянную шайку горячей воды, поставила её на пол перед скамьёй, достала из-под неё старый горшок с зелёно-голубой глиной, затем обмазала ею варёные сосиски-ноги одну за другой, а через паузу омыла их тёплой водою.
— Видишь, малёк, глина-то лучше мыла моет, да и размякшую кожу стягивает, всё на свои места ставит, во как.
Присев передо мною на малую скамейку, стала на своих коленях растирать мне ноги поочерёдно каким-то жёлто-зелёным маслом, приговаривая: — Ты не бойсь, не бойсь, пацанёнок, учись боль терпеть. Боль — это ощущение жизни. Боль потерпишь чуток, кровушка веселее по жилкам твоим потечёт и долой всю застыху прогонит. И снова ты побежишь на родину в Ленинград, к своей матке Броне.
— А откуда вы, бабуля, знаете про мою матку Броню?
— А ты во сне кричал громко её, просил спасти тебя от огня... И другую матку, Боску, просил освободить от Бабы яги. Весь двор всполошил. Нас в доме разбудил, во как! Да и говорил ещё на каком-то непонятном наречии... Ты что, не наш?
— Нет, наш. Только матка — полька.
— Знать, ты бежишь к матери своей?
— Да, бегу.
— Вот бедолага какая! А откуда бежишь-то?
— Из-под Омска бежал. А теперь из Челябинского детприёмника смылся!
— Вон какую длинную дорогу ты пробежал уже, до Урала добрался! Зима-то уже идёт, холода, вишь, пошли. Государству тебе надобно сдаться.
— Да, тётенька-бабуся, придётся сдаться. Сдаваться лучше в другой области. У вас я уже в другой, можно пойти на дело такое.
— А почему лучше в другой?
— Я ведь беглый, коли поймают в челябинских землях, то снова вернут назад в тот же приёмник НКВД да в нём сильно побьют. Мне бы в Молотов-Пермь попасть, а там — через север да в Ленинград. В молотовском ДП перезимовать, отучиться, а по весне — ноги в руки да к матке Броне. — Вон ты какой, малёк, шустрый!
— Да какой я малёк! мне уже десятый годок стукнул!
— Но ежели бы ты не дополз до вокзала, то наш морозец отъел бы напрочь твои ножки. Знать, Боженька улыбнулся тебе, коли набрёл на меня, с ногами жить останешься.
— Спасибо вам, тёточка-бабуля, за волшебную доброту, за моё спасение! Век вас буду помнить! я три месяца после Челябинска в уфалее у китайца помоганцем жил, гавриком. Он узорные красивые картины на стёклах рисовал и затем на рынке продавал. Меня всяческим ремесленным приёмам учил. Научил печатать красками по трафаретам, закреплять краски, чтобы не пачкали, бумагу-картон правильно склеивать и многому другому. Я у него на глазах оттрафаретил и отрисовал пять колод игральных карт — цветух по-нашему. Одну из них, на выбор, с благодарностью вам оставляю. Они в моём мешочке заспинном, сидорке. Колоды со всеми королями, дамами, валетами, писанные цветными красками, как положено. Личины у них рисованы мелкими кисточками, связанными учителем-китайцем. По вечерам раскладывать пасьянсы начнёте и в дурочка играть с дедом Пантелеем. Карты сейчас нигде не продают. Другого-то у меня и нет ничего... А ноженьки вы мне точно спасли, тётенька-бабуля!
— Погоди, оголец, лечить тебя надобно дней ещё пяток. Жить начнёшь здесь, прямо в бане. Печку ежедневно топить будем, дед дров принесёт. Сегодня на ночь компресс лопуховый снова поставим, только без коровьей начинки. С лавки поднимайся только по нужде, а остальное время лежи! Дочуха Евдокия тебе козлиный тулуп принесла. Ты в него завернись кульком и живи в нём, здоровей. Она же едой-кашей, какая в доме есть, кормить тебя начнёт. Пока парного молока выпей от моей коровы Маруськи да хлебом из печи закуси. А теперь давай, малый, живи дальше, видишь, сам Ангел твой тебя охраняет!
P. S. Дед Пантелеймон на седьмой день лечебного гостевания у бабульки-лекарки с помощью своей ближайшей подруги кобылы Таши доставил меня, починенного, в санях на станцию к «железке». По дороге, на мою благодарность по поводу его великой старухи-лекарки, хвастанул мне: «Она, матынька, вон, по всей округе больную скотину лечит, в порядке живой очереди. Овец всяких, собак, коз, коров, быков, лошадей. Водились бы на наших землях бегемоты — она бы и их вылечивала от болезней. А тебя, козявушибздика малого, ей на раз свистнуть. Она же у нас ворожиха!»