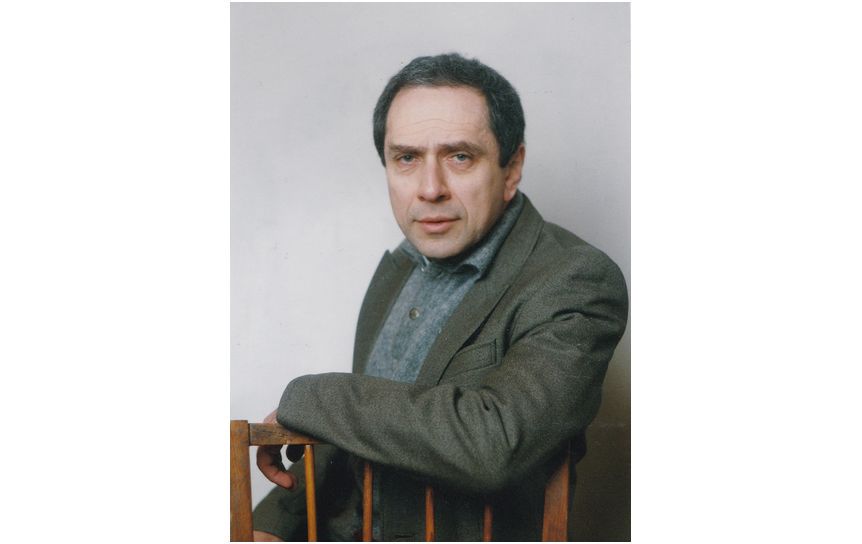Текст: Платон Беседин
В июле 2024 года я стал участником замечательного Шукшинского фестиваля. В его рамках выступал на книжной ярмарке в Бийске, в Алтайской краевой библиотеке. И везде мне ожидаемо задавали один и тот же вопрос: что читать из современной прозы? Спрашивали и просили назвать некоммерческих авторов и произведения. Так вот, отвечая, я одним из первых называл роман Захара Оскотского «Зимний скорый». Никто ни текста, ни автора не знал. Вернее, так: знал лишь один человек – Владимир Душин, легендарный алтайский читатель. Впрочем, я и сам ничего не слышал о Захаре Оскотском до того времени, пока Владислав Толстов не написал о книге «Зимний скорый» для проекта «Современная русская литература», который мы придумали вместе с Модестом Колеровым в ИА Regnum.
Рецензия Толстова была прекрасна, и я сразу же купил книгу Оскотского. Однако читать её начал лишь спустя полтора года. Это было в двадцатых числах июля, а 21 августа 2024-го – ровно год назад – на страничке всё того же Владимира Душина в «ВКонтакте» я прочитал: «После продолжительной болезни скончался Захар Григорьевич Оскотский (23.01.1947 - 21.08.2024)». Он прожил 77 лет, написал книги «Гуманная пуля», «Последняя башня Трои», «Утренний, розовый век» и собственно «Зимний скорый», так меня поразивший. И я всё собирался написать о нём, но вечные неприятности тормозили, не давали этого сделать. При этом о Захаре Оскотском после его смерти так никто подробно и не написал. Или я просто не нашёл соответствующего текста? Значатся лишь слова в его группе в «ВК», довольно большой, кстати, группе, наполненной запахами с книжных полок.
Да, есть в этом чудовищная несправедливость – в том, что смолчали о Захаре Оскотском, в том, что роман «Зимний скорый» не прозвучал должным образом. Отчасти похожая история, к слову, вышла с великим произведением «Обрыв» Гончарова. Иван Александрович работал над ним 20 лет, а когда опубликовал, то получилось уже не вовремя, момент был, что называется, упущен. Вот и Захар создавал свой роман долго, слишком долго. Он начал работу над ним в 1982 году при живом Леониде Брежневе и писал больше 20 лет с перерывами на другие тексты: в конце значатся годы создания 1982–2005. Издан же «Зимний скорый» был тоже не сразу, а лишь через девять лет после завершения – в январе 2014 года в не самом крупном издательстве «БХВ-Петербург». Не знаю, отчего так. Вероятно, издатели в очереди не стояли.
А меж тем роман Оскотского достоин самых больших тиражей и массового прочтения.
Такие книги, как у Оскотского, хорошо читать за один присест – например, на тихой уютной даче, отключив телефоны и сделав запас необходимых продуктов; что-нибудь простенькое вроде гречки, тушёнки и банки консервов «Сардины в масле». Рядом должен белеть русский лес, обязательно заснеженный, туда можно будет выйти, пройтись, протаптывая дорожки, чтобы осмыслить прочитанное.
Да, в «Зимнем скором» есть что осмыслять, а главное – есть что прочувствовать. Оскотский создал роман-полотно, и в жизнях трёх товарищей (вероятно, с приветом Ремарку) отразил судьбы людей того поколения, судьбы всего народа, той страны, не выдержавшей испытания не только геополитическими, экономическими войнами, но и высокой идеей, мечтой, обычными человеческими слабостями и грехами. Это, выражусь просто, важное, пронзительное произведение, где выписано всё предельно детально, с вниманием и даже любовью. Композиционно роман выстроен идеально, и по такой книге сделать бы сериал, однако нет и, вероятно, не будет никакого кинопроизведения, как не случилось и должного прочтения романа.
Причина? Полагаю, что «Зимний скорый», блестяще передав дух, нерв, атмосферу советского времени, не вписался в современный zeitgeist. Ведь уже в 90-е появился вал литературы об СССР – и большинство произведений шли под лейтмотивом «так жить нельзя». К тому же в первой половине десятилетия появилось огромное количество текстов, которые раньше читали только в самиздате, чуть ли не подпольно, а тут они оказались в широком доступе. В нулевые тенденция сохранилась: некоторые авторы, например, сделали карьеру на репрессированных народах. Оскотский с его детализированным полотном эпохи в существующий контекст не вписывался. Это не о том, что «так жить нельзя» или «так жить нужно» – это в первую очередь о том, как реально жили. И, как, например, историю Англии и Франции определённых эпох изучают по книгам Диккенса и Флобера, так часть советского времени можно познавать по роману «Зимний скорый».
Оскотский поставил перед собой колоссальную задачу – явить человека (человека и его «будничность подвига») на фоне не просто меняющейся эпохи, но, шире, на фоне обрушивающейся мечты, великой советской мечты – и обрушение это происходит через крушение идеалов и общества в целом, и каждого человека в частности. Справился ли Оскотский с поставленной задачей? С точки зрения композиции, смыслов, безусловно, да – и справился блестяще; что касается стилистики, языка, то тут есть вопросы, однако они компенсируются притягательной атмосферой книги. В целом же, конечно, для Оскотского важен не столько поиск языка, сколько изложение собственных концепций и прозрений. «Зимний скорый» – пожалуй, лучшее произведение автора, впечатляющее за счёт атмосферы, деталей, мыслей, за счёт связи прошлого и настоящего, за счёт по-настоящему душевных, симпатичных героев. Это насыщенный, увлекающий и содержательный текст.
Ещё один роман Оскотского «Последняя башня Трои» в плане атмосферы уже не столь хорош. Если «Зимний скорый» имеет подзаголовок «Хроника советской эпохи», что само по себе очень точно, то в «Трое» Захара во многом губит заявленный жанр – остросюжетный детектив. Да, книга существует в таком качестве скорее формально, но фактически её сближает с ним масса банальностей в описаниях и обилие серых диалогов, переходящих в пошлые постельные зарисовки, будто автор и правда изо всех сил пытался сделать текст остросюжетным и увлекательным. Но вот только ради чего? Ведь фактически «Последняя башня Трои» – это текст, родившийся из научной работы. Как бы увлекательная форма тут – лишь оболочка для серьёзного теоретического исследования, переходящего в пророчество. Позволю себе такую аналогию. Вам вручают подарок в яркой обёрточной бумаге, перевязанный красными тесёмками. Вы разворачиваете эту красоту и видите внутри книгу, в которой поднимаются сложные вопросы, требующие максимального погружения.
Оскотский в начале XXI века одним из первых в современной русской литературе проговорил вещи, которые сейчас обсуждаются повсеместно в контексте трансгуманистической повестки. И в центре её, конечно же, находится краеугольный камень – бессмертие, вечная жизнь. Захар Оскотский прописал то, к чему, например, Виктор Пелевин подступится лишь через десяток лет. Одержимость бессмертием, вечной жизнью, готовность подчинить этому существование целых стран, народов и транскорпораций – вот о чём пишет автор «Последней башни Трои» – и точность прогнозов, визионерский дар тут поражает. Ведь если отбросить всю экономическую и геополитическую шелуху, то власть имущие действительно озабочены лишь одним – обеспечением максимальной, а в идеале бесконечной продолжительности собственной жизни. Ради того они готовы высасывать человечество, подобно древним вампирам.
Рождается вопрос: мог ли роман Оскотского предупредить, предотвратить катастрофу? Предотвратить, конечно, не мог – тут, что называется, без шансов. Стремление человека и человечества к самоуничтожению, к пленению Фатумом, их очарованность смертью как своего рода избавлением на протяжении многих веков изумляют. Об этом, к слову, были сняты первые две картины из культовой франшизы «Терминатор». Её подлинный смысл точно сформулировал успевший посмотреть ее первую часть Андрей Тарковский: «Этот фильм об отношениях человека с Фатумом, с судьбой». Но Кэмерон, тут и сравнивать бесполезно, имел куда больше ресурсов и пространства для манёвра, чем Оскотский, он создавал шедевр в другой стране и в другом виде искусства (более массовом и доступном). Русский же писатель не смог и, вероятно, изначально не имел шансов быть столь убедительным и внятным, а потом его либо вообще не слышали, либо слышали совсем немногие.
И тем не менее сейчас стало очевидным, насколько он был прав тогда. Это, впрочем, не означает, что тексты Захара Оскотского интересны исключительно как предсказания, как всполохи футурологического костра – нет, конечно. Он в первую очередь писатель, большой русский писатель: не с точки зрения стиля – тут есть определённые шероховатости, а, прежде всего, в контексте поднятых им тем. «Последняя башня Трои» – роман о будущем, «Зимний скорый», феноменальная вещь, в которой есть сияние прозы и Трифонова, и Ремарка, и Казакова, – роман о прошлом, и в этом чувствуется связь времён, потому что Оскотский исследует не только пространство, но и время: преобразования в нём и его, времени, преобразования тоже.
Это по-настоящему большая литература, создавая которую автор ставил перед собой фундаментальные задачи. Да, вероятно, не все ему удалось решить, далеко не всех целей он добился – однако уважение вызывает само намерение, звучащее как вызов, выглядящее как брошенная перчатка в эпоху тотального мелкотемья, желчной иронии, зацикленности на себе. То же, что Оскотскому всё же удалось реализовать в прозе, вопреки всем трудностям и препонам, объективным и субъективным, вызывает не только уважение, но и подчас восхищение. Однако трагедия (пожалуй, именно так, да) заключается в том, что zeitgeist зачастую отказывает таким авторам в признании. Им не находится тёплого места во всё не кончающейся зиме равнодушия.