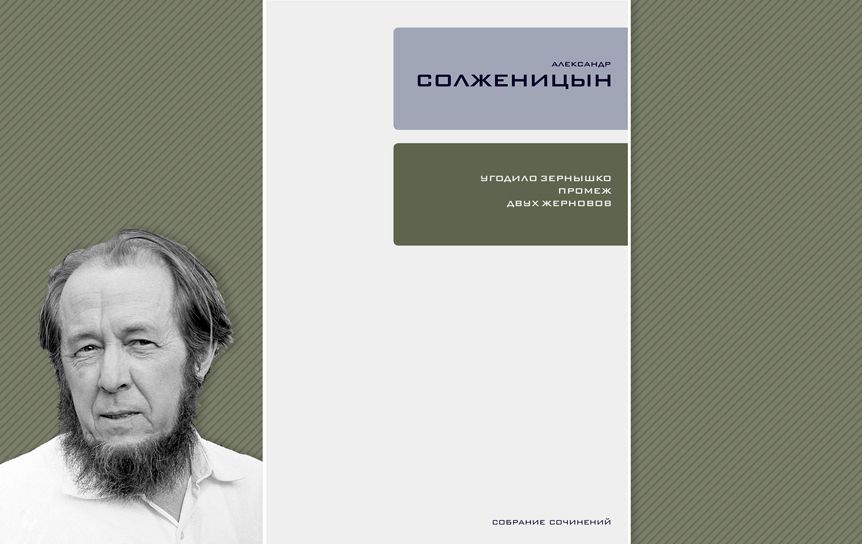Текст: ГодЛитературы.РФ
Выходящая в издательстве «Время» книга Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» (29-й том Собрания сочинений) — продолжение его первой мемуарной прозы, изданной в 28-м томе («Бодался телёнок с дубом»). В годы изгнания (1974—1994) писатель одновременно оппонировал как коммунистической системе, так и не лишенному недостатков западному мироустройству, однако два «жернова» не перемололи «зёрнышко»: художник остался художником. Литература в этих очерках (скажем, история создания «Красного Колеса») неотделима от жизни, так же, как тяжкие испытания неотделимы от радостного приятия мира. Потому здесь с равной силой говорится «на чужой стороне и весна не красна» и — с восхищением! — «как же разнообразна Земля», потому так важны портреты — близких друзей и обаятельных людей, лишь однажды встреченных, но вызвавших незабываемую приязнь. Палитра этой книги на редкость многокрасочна, но буквально любой её эпизод просвечен главной страстью Солженицына — любовью к России, тревогой о её судьбе.
Фрагмент книги предоставлен издательством "Время".
Александр Солженицын «УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ: ОЧЕРКИ ИЗГНАНИЯ». Том 29 (2022)
- Издательство «Время», 2022
НОБЕЛЬ (из Главы 1)
Ещё одна неоконченность прошлых лет оставалась — получение Нобелевской премии. Подошёл и декабрь. У прекрасного старого цюрихского портного сшили фрак — на одно надевание в жизни? Чтобы больше видеть Европу глазами, мы с Алей поехали поездом. Какой прекрасной описывает Бунин свою железнодорожную поездку в Стокгольм, из тех же почти мест. А я — не нашёл лучшего расписания. Почему-то в Гамбурге утром наш спальный вагон отцепили — перетаскивайся с чемоданами в другой вагон или в другой поезд, а позже опять, и опять. Так до Швеции мы испытали пять пересадок. По Швеции ехали долгим тёмным вечером, не видя её, а спутник по купе, бывший западногерманский консул в Чили, рассказывал нам о бесстыдстве и шарлатанстве тамошних «революционеров». — «Да вам бы об этом книгу издать!» — «Что вы, разве можно? Заклюют. ФРГ — уже почти коммунистическая страна».
Чтоб избежать корреспондентской суматохи, мы уговорились приехать тайно и не с главного стокгольмского вокзала (да подлавливать-то могли скорей на аэродроме). Шведский писатель Ганс Бьёркегрен, он же и мой шведский переводчик, и ещё один переводчик Ларс-Эрик Блумквист вошли к нам в поезд за час до Стокгольма. А на последней перед ним станции мы сошли — и на пустынном перроне нас приветствовал маленький худощавый Карл Рагнар Гиров. Вот как закончилась наша длинная нобелианская переписка и вот где мы встретились наконец: без единого западного корреспондента, но и без единого советского чекиста, совсем было пусто. Оттуда просторным автомобилем поехали в Стокгольм и достигли того самого Гранд-отеля, от которого меня в 1970 отговаривал напуганный Нобелевский комитет. Всё же на ступеньках уже дежурили фотографы и щёлкали, совсем тихо приехать не удалось. Стоит отель через залив от королевского дворца, фасадом к фасаду. По мере прибытия, в честь приехавших лауреатов поднимаются на отеле флаги.
В нашей советской жизни праздники редки, а в моей собственной — и вообще не помню такого понятия, таких состояний, разве только в день 50-летия, а то никогда ни воскресений, ни каникул, ни одного бесцельного дня. И вот теперь несколько дней просто праздника, без действия. (Впрочем, натолкались и дела — визитами, передаваемыми письмами. Настойчиво устроили нам внезапную встречу с баптистским проповедником Биллом Грэмом, исключительно популярным в Америке, а мне совсем неизвестным. Приходил эмигрант Павел Веселов, ведущий частные следствия против действий ГБ в Швеции, и со своей гипотезой об Эрике Арвиде Андерсене из «Архипелага».) Следующий день был совсем свободен от расписания — да день ли? даже после невских берегов поражает стокгольмский зимний день своею краткостью: едва рассвело — уже, смотри, вот и полдень, а чуть заполдень заваля — и темно, в 3 часа дня наверно. В эти дневные сумерки наши дружественные переводчики повезли нас в Скансен. Это — в пределах Стокгольма чудесный национальный заповедник на открытом воздухе: свезенные с разных мест Швеции постройки, кусок деревни, ветряная и водяная мельницы (всё в действии), кузня, скотный двор, домашняя птица, лошади и катанье детей в старинных экипажах, само собой и зоологический сад. Зимою под снегом многое приглушено, но тем ярче и привлекательней старинные жилища с пылающими очагами, раскаткою и печевом лепёшек на очаге, приготовленьем старинных кушаний при свечах, старинными ремёслами — тканьём, вязаньем, вышиваньем, плетеньем, резьбой, продажею народных игрушек, стеклА, — а базарные ряды гудят, и в морозной темноте снимают вам с углей свежежареную рыбу. Все веселятся, а дети более всех.
Вот это, пожалуй, и было самое яркое впечатление изо всех стокгольмских дней. Непривычные часы праздничного веселья. И радости-зависти, что ведь у нас в России могли бы быть народные заповедники не хуже, без проклятого большевизма, — а всю нашу самобытность вытравили, и наверное, навсегда… (А ведь и у нас затевал Семёнов-Тян-Шанский в 1922 году из стрельнинского имения великого князя Михаила Николаевича устроить «русский Скансен», — да разве в советское лихолетье такое ко времени? Попечатали в «Известиях» и закинули. Не к тому шло.)
Ещё на следующий день удалось нам побродить часа два по старому городу на островах — вокруг королевского дворца старыми улочками, и по Риддархольмену с его холодными храмами. А все памятники Стокгольма едва ль не на одно лицо: все позеленевшие медные, все стоймя и все с оружием (умела когда-то эта нация воевать). Стокгольм как бы не гонится за красотой (чрезмерные водные пространства мешают создавать ансамбли через воду, как в Петербурге) — но оттого очень пóдлинен. И угластые площади его — неопределённой формы, не подогнанные.
Затем был обед, традиционно даваемый Шведской Академией — лауреату по литературе, в данном случае нам троим, этого года лауреаты были два милых старичка-шведа — Эйвин Юнсон и Харри Мартинсон, и третий к ним — я, на четыре года опозданный. Это происходило в ресторане «Золотой якорь», очень простой старый дом, и досчатые полы, и домашняя обстановка. Тут и собираются академики каждый четверг обедать — обмениваться литературными впечатлениями и подготовлять своё решение. Едва мы вошли в залик — и уже какой-то плечистый, здоровый, нестарый академик тряс мне руку. С опозданием мне назвали, что это — Артур Лундквист (единственный тут коммунист, который все годы и возражал против премии мне).
А всего академиков было, кажется, десять, больше старички (но не только), были весьма симпатичные, а общего впечатления высшего литературного ареопага мира не составилось. И покойное течение шведской истории в ХХ веке, устоявшееся благополучие страны — может быть, мешали вовремя и верно ощутить дрожь века. В России, если не считать Толстого, который сам отклонил («какой-то керосинный торговец Нобель предлагает литературную премию», что это?), они пропустили по меньшей мере Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Набокова. А в их осуществлённом литературном списке — сколько уже теперь забытых имён! Но они и присуждают всего лишь в ХХ веке, когда почти всюду и литература упала. Никто ещё не создал объективное высшее литературное мировое судилище — и создаст ли? Остаётся благодарить счастливую идею учредителя, что создано и длится вот такое.
Наверно, никогда за 70 лет Нобелевская литературная премия не сослужила такую динамичную службу лауреату, как мне: она была пружинным подспорьем в моей пересилке советской власти.
Но мечтается: когда наступит Россия духовно оздоровевшая (ой, когда?), да если будут у нас материальные силы, — учредить бы нам собственные литературные премии — и русские, и международные? В литературе — мы искушены. А тем более знаем теперь истинные масштабы жизни, не пропустим достойных, не наградим пустых.
Накануне церемонии собирали лауреатов на потешную репетицию: как они завтра вечером будут перед королём выходить на сцену парами и куда рассаживаться. 10 декабря так мы вышли, и неопытный, молодой, симпатичный, довольно круглолицый король, первый год в этой роли, сидел на сцене рядом со своей родственницей, старой датской принцессой Маргрет, она — совершенно из Андерсена. Уже не было проблемы национальных флагов над креслами лауреатов, как в бунинское время, их убрали, — и не надо было мучиться, что же теперь вешать надо мною. При каждом награждении король поднимался навстречу лауреату, вручал папку диплома, коробочку медали и жал руку. После каждого награждения зал хлопал (мне — усиленно и долго), потом играл оркестр — и сыграли марш из «Руслана и Людмилы», так хорошо.
Господи, пошли и следующего русского лауреата не слишком нескоро сюда, и чтоб это не был советский подставной шут, но и не фальшивая фигура от новоэмигрантской извращённости, а его стопа отмеряла бы подлинное движение русской литературы. По забавному предсказанию Д. С. Лихачёва литература будет развиваться так, что крупные писатели станут приходить всё реже, но каждый следующий — всё более поражающих размеров. О, дожить бы до следующего!
Да, в этот день были же и дневные часы, короткий утро-вечер, но сегодня ведренные, без облаков, с холодным низким солнышком, резко-морозным ветерком. Нобелевская лекция моя напечатана уже два года назад, заботы нет, да и банкетное слово тогда же сказано, урезанное, но сегодня не обойтись без нового банкетного слова. Я составил его ещё накануне. Однако рассеянное состояние головы, много впечатлений, отвлечений, — и эти короткие фразы не ложились уверенно в голову, а никак не хотелось мне читать с бумажки, позор, — но и сбиться не хотелось. И я пошёл прогуливаться невдали по узкому полуострову Скепсхольмену, с видом на Кастельхольмен, с редко расположенными в парковой обстановке переменно — домами старинными и новыми; и, по-тюремному, ходил по аллее туда-сюда, туда-сюда, туповато запоминал наизусть и посматривал на красное, как бы всё время заходящее на юге солнце. А два полицейских дежурили тактично в стороне, наблюдая за подходами ко мне. Почти это было — как спецконвой сопровождает и охраняет избранного зэка.
В ратуше опять мы церемонийно шагали с предписанными в программках дамами и, ни позже ни раньше, в какой-то момент, вослед за королём, садились на свои места, обозначенные табличками. (Со мною была дама из рода Нобелей, ещё говорящая по-русски. Аля сидела напротив с видным посланником.) Банкет был в этом году в самом большом зале ратуши, и столов 20 гостей уже были плотно усажены прежде нас. Где-то тут совсем близко сидели приглашённые мною Стиг Фредриксон с Ингрид, верные спутники нашей борьбы, однако они терялись в массе гостей, мне очень хотелось выделить их, подойти к их столу, — но соседка моя объяснила, что это было бы дерзейшим и невиданным нарушением церемониала: пока король сидит, никто из гостей не смеет приподняться. Еле я удержался. А потом подошёл и момент, когда подняться требовалось — идти к трибуне, говорить своё слово. Все лауреаты читали по бумажкам, мне удалось прочесть на память, неплохо. (Би-Би-Си, «Свобода» донесут голос до наших.)*
А в общем, наивен я был четыре года назад, призывая их за этим чопорным банкетом думать о голодовке наших заключённых.
Но больше: продешевился бы я крепко, вот только ради одного такого церемонийного дня — уехавши бы из России добровольно, да от неё тут же и отсеченный: тут в Стокгольме и узнать о лишении гражданства: упала секира, сам уехал? Хорош бы я был? (Аля поняла это в 1970 раньше меня.) И чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшейся в Америку и Европу за лёгкой жизнью, подальше от русских скорбей?
Сейчас хор студентов с галереи зала пел мне, с сильным акцентом, «Вдоль по улице мятелица мятёт», — так, слава Богу, не сам я эту улицу избрал, но шёл, как каждый зэк идёт, судьбою принуждённой.
На следующий вечер, 11 декабря, был ужин у короля во дворце, и к нам с Алей приставлен ещё один русскоговорящий старичок из рода Нобелей. Дворец был мрачен и пуст, так огромен — совсем уже не по маленькой Швеции. Где-то в одном его крыле жил молодой король, ещё не женатый, — из нашего Гранд-отеля, через залив, многие окна дворца были видны тёмными. Теперь в зале нас выстроили изогнутой вереницей, попеременно дам и мужчин, впереди стал самоуверенный премьер социалист Пальме, истинный хозяин положения, и король начал обход с него. А рядом со мной была тоже дама социалистическая — госпожа Мюрдаль, то ли бывший, то ли нынешний министр по разоружению, говорили мы с ней по-немецки, а политический диссонанс между нами был — как скрести ножом по тарелке. Обеденный зал, как галерея-коридор, с длинным столом вдоль, очень эффектные старинные стены, мебель, церемониймейстер за стулом старой королевы, — а обед был скучный, да и скудноватый, шутили мы с Алей, что Пальме совсем до ноля срезал королевский бюджет. После обеда было церемонийное стояние с кофе и напитками в предзальи; минут сорок, пока король не ушёл, — все должны были стоять. Аля не удержалась и через нашего старичка спросила короля: трудно ли быть королём в наш век? Он отвечал очень просто и серьёзно.
* - «Слово на Нобелевской церемонии» // Публицистика, т. 1, с. 223– 224.