
Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»
Москва довоенная для Нагибина — это дворы, переулки и весь мир, в котором есть Чистые пруды, стадион «Динамо» и Большой театр с его филиалом. Он по ней тосковал, ворчал на современные городские нравы, на щербатые электрические вывески с вечно перегоревшими буквами. Ностальгический мотив по молодой Москве, погибшей на фронте — один из главных его мотивов.
Невыносимый
«Моё анкетное существование весьма резко отличается от подлинного. Один из двух виновников моего появления на свет так основательно растворился среди всевозможных мифических отчимов, что можно подумать, будто я возник только из яйцеклетки. Но вытравить отца мне удалось лишь из анкетного бытия. В другом, в плоти и крови, существовании моем он непрестанно напоминает о себе», - писал он саркастично и точно. На этом дверь в личную жизнь мы, пожалуй, закроем. Она у Нагибина выдалась запутанной до изумления. Но литература и кино интереснее.
Он быстро завоевал материальную независимость — вплоть до личного автомобиля с водителем. Стал «советским барином» — а значит, фигурой, невыносимой для завистников. До сих пор! Но это — потому, что литературный труд был для него не работой, не службой, а образом жизни. Каждый день из года в год. Рассказы, повести, сценарии, предисловия, эссе, филиппики… В дневнике он писал: «Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно, хотя и с большим вредом позволяет отделаться от себя». Но это не то чтобы кокетство, просто необъективная оценка. Нагибинская сила восхищения не уступала его же силе разочарования и мизантропии. А без успеха он просто не мог существовать. Не отшельник.
Фильмы, снятые по его сценариям, без зрителей не оставались. Книги раскупались резво. Когда автору было лет 45 — школьники и студенты по его рассказам уже писали изложения. Он частенько (по советским меркам, конечно) бывал там, где родились его любимцы Кальман, Гёте, Шарль Перро… Такое, конечно, тоже не прощается.
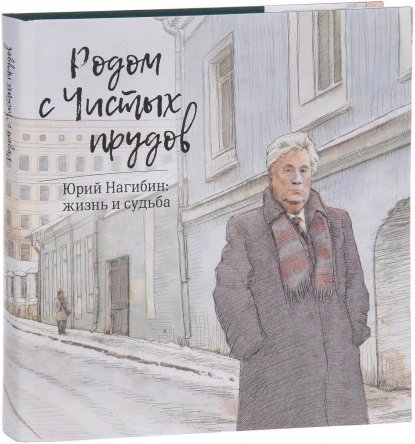
Нагибина устраивало, что прозаики считали его слегка киношником, а сценаристы — маститым прозаиком с целой чередой самых настоящих книг в твердых обложках. Так было легче держаться особняком.
Два его фильма остались в истории навсегда. Это «Дерсу Узала» Акиро Куросавы, получивший «Оскара», и, конечно, «Председатель» Алексея Салтыкова. А начал он в 1955 году с принаряженно соцреалистического «Гостя с Кубани» по собственному рассказу «Комбайнеры» — о том, как молодой, но несколько эгоистичный колхозник Николай под влиянием коллектива превращается в безукоризненно положительного героя. Скажем прямо: в огромной галерее нагибинских героев столь прямолинейных товарищей было мало. Но когда-то они ему были необходимы…
Позже вместе с Салтыковым Нагибин выпустил еще несколько кинолент, но это были в лучшем случае полуудачи. И «Емельян Пугачев», и «Семья Ивановых»… Чувствуется, что писал он это увлеченно, но между делом, неохотно отвлекаясь от рассказов. И, например, молодежь семидесятых мало интересовала мастера. И слишком нарочитая попытка создать «народный кинороман» добром не закончилась. В последние годы в кино он просто рассказывал о полнокровных художниках, которыми восхищался — о Чайковском, об Имрушке Кальмане, о капельмейстере Юрии Голицыне. Просвещение было одной из его генеральных линий. Он любил открывать для публики то, что знал и любил сам. Ему было скучно среди одних выдуманных героев. Жаль, что не удалось довести до ума замыслы сценариев о Рахманинове и Лемешеве — но стоит ли требовать от судьбы одного лишь попутного ветра?

А держался он действительно вальяжно. Даже небольшой дефект речи не мешал магическому впечатлению, которое производил на окружающих этот седой статный господин.
Обмен репликами
И, как выражаются в почтенных повестях, однажды я в этом убедился воочию. Часа два мне довелось сидеть за одним столом с классиком, которого я читал лет с шести, с его предисловия к «Сказкам зарубежных писателей», к Шарлю Перро и Андерсену.
Он без суеты, но и без равнодушия обменивался репликами с дамами, которые в присутствии Нагибина расцветали. Мэтр (к нему подходит это слово) добродушно и мужественно ворчал на московские пробки (в 1990 году!), на нашенское бездорожье, на безалаберность.
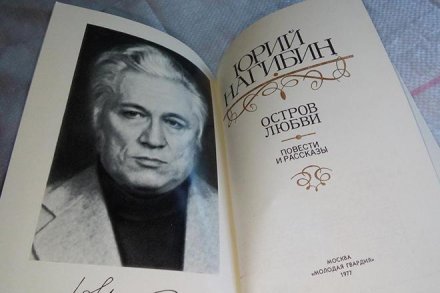
Он свободно сочетал самоиронию с ощущением собственной значимости.
Тут и прямая спина, и учительские интонации. Женщины даже перебросились с ним несколькими соображениями о хоккейном кубке «Известий»! Закат перестройки лишней грусти у него не вызывал: он выступал за перемены, даже за слом обветшавшей системы. Хотя знавал и помнил и лучшие ее времена. Помнил и времена страшноватые. Войну прошел.
А потом он так же заразительно, как на бумаге, рассказывал о своих новых книгах и всем советовал читать Мамлеева. И был бесспорным главой стола, уставленного дефицитной осетриной. Словом, он был похож на свою прозу. И на писателя, властно распоряжающегося своими замыслами и рукописями.
Дневник
Жаль, что Дневник (а точнее — его двусмысленная слава) в последние двадцать лет заслонил всё остальное, написанное Нагибиным. Это кривое зеркало, в котором эмоции слишком искренни и яростны, чтобы быть точными. Это сырье — во многом так и не применённое в деле.
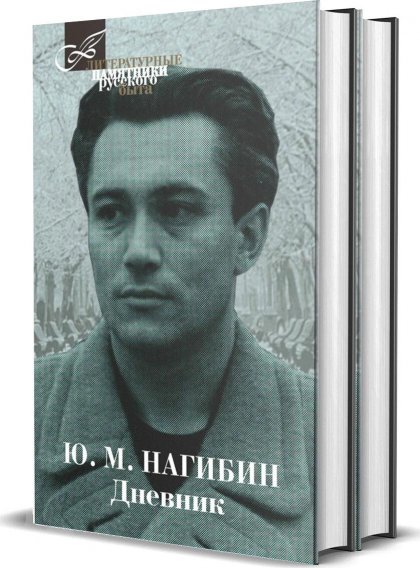
Да, Нагибин сам готовил публикацию этой эпатажной (и блистательной) книги и, наверное, понимал, что после неё на него будут смотреть по-новому. А все-таки «Чистые пруды» (не фильм — он как раз не удался, а цикл рассказов!) лучше. И фильм «Председатель» время не отменит. Его политические порывы уже не слишком важны, и карикатурой на Берию никого не удивишь. Но Нагибин — горожанин — показал колхозную послевоенную правду на уровне фрески. Его герой не стал близнецом своего прототипа — Кирилла Прокофьевича Орловского. Но у актера Михаила Ульянова получилось нечто более важное. Герой, коммунист, руководитель, фронтовик, фанатик — всё вместе. И в этом правда времени, а, если говорить точнее и осторожнее — её важный ракурс.
И о любви мало кто писал в ХХ веке, как Нагибин. И никто так заразительно и талантливо не восхищался Афанасием Фетом, Николаем Лесковым, Имре Кальманом, Сергеем Лемешевым!
В Дневнике он, как правило, изливал раздражение. Сетовал, что теряет любовь к миру, к лесу, к собакам, к женщинам, к путешествиям, даже к музыке… А, значит, всё-таки сохранял всё это. Иначе — к чему сетовать?
Считать дневник его единственной отдушиной – значит, просто себя обкрадывать.
Лишать себя отточенных нагибинских рассказов его лучшего времени — 1960–70-х. И вспомнить можно не только описания природы, давно ставшие хрестоматийными, но и, например, рассказ о том, как в блокадном Ленинграде давали «Сильву». Там ни одного лишнего междометия нет. Да и «Зимний дуб», который снова и снова будут вспоминать адвокаты Нагибина — проза безукоризненная. Цитировать и наслаждаться: «Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет». Вот он, русский литературный язык в оттенках.
Как водится, больше всего шуму произвел далеко не лучший (и в меньшей степени «бунинский») его рассказ —«Терпение». Это был читательский «шлягер», открывавший потаенную сторону нашей жизни, да еще и с трагическим финалом. Но и этот рассказ о семейном путешествии на остров Богояр выписан как классическая поэма.
Разобраться в пережитом
В последние годы жизни он издал несколько карикатурно перестроечных, хотя и ярких вещиц — таких, как «Любовь вождей». Как после этого относиться к его патентованно советским книгам о детстве Юрия Гагарина? Или, например, к повести и фильму «Трудное счастье» про цыганенка, ставшего офицером Красной армии, в котором кулаки и белогвардейцы — сущие исчадья ада, а коммунисты — благороднее некуда. Да он и сам в Великую Отечественную служил политруком и писал для фронтовой прессы. И первая его книга, вышедшая в 1943 году, называлась «Человек с фронта». Найдите её.

«Письмо 42-х» в 1993 году он подписал не столько из политического радикализма, сколько из мизантропии из общего разочарования в идеях, которые переполняли его мир в молодости. На закате лет он немало времени проводил в Италии. В комфортном европейском мире «русский бунт» выглядел не только бессмысленным и беспощадным, но и нестерпимо уродливым.
Он, подобно Льву Кассилю, умер во время чемпионата мира по футболу, 17 июня 1994 года. Только Кассиль скончался во время финального матча Италия — Бразилия, а Нагибин — в день открытия чемпионата, сражений которого ждал с привычным азартом. Кстати, в финале в тот раз снова бразильцы сразились с итальянцами и снова победили. Но дело не в этом. А, например, в том, что старенький рассказ «Почему я не стал футболистом» хочется перечитывать. А концовка там такая: «Чем больше я пишу о детстве, тем сильнее хочется мне разобраться в пережитом, а не истаивать в бездумно-поэтической восторженности. Я наконец-то понял, что прошлое целиком входит в жизнь настоящего. Оно перестает работать в нас, лишь когда мы притворяемся детьми — в устных воспоминаниях или творчестве. Детство растворено в нашей взрослой крови и заслуживает серьезного разговора, а не сладких слез умиления». Это очень нагибинская мысль.

А если кого нагибинский «Дневник» разочаровал неприглядным эгоцентризмом автора, который, оказывается, не был добрым доктором Айболитом — давайте предположим самое очевидное:
чтобы создавать такую нежную прозу, наверное, приходится бывать и циником, и самоедом, и неврастеником — в зависимости от обстоятельств.
Так и остался пропахший коньяком и книжной пылью земной человек, влюбленный в высокое искусство. Жизнелюбие и мизантропия. Бунинский набор качеств. Считалось, что искусству прозы Нагибин (как и многие в его поколении) учился именно у Бунина. Но Нагибину не хватало сдержанности, в нем часто открыто проявлялась неуемность темперамента. К тому же он не чурался сенсационности. Иначе бы из Нагибина уж точно не вышло киносценариста с длинным послужным списком. Невозможно же представить Бунина соавтором блокбастеров?
Издан Нагибин неплохо — и при жизни, и в последние десятилетия. Скоро, наверное, и дневник переиздадут. Сохранился и миф о чрезвычайно успешном писателе с двойным дном. Это немало. Думаю, его даже в лицо будут помнить — так силён нагибинский миф.








