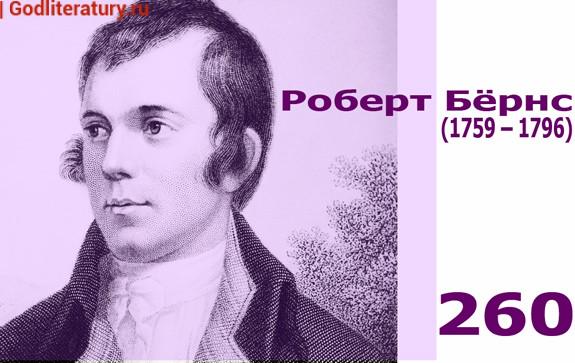Текст: Михаил Визель
Коллаж: ГодЛитературы.РФ
Среди эффектных определений, чтó есть поэзия, существует и такое: это то, что теряется в переводе. И Роберт Бёрнс (1759—1796), кажется, это парадоксальное утверждение оправдывает вполне. В самой Шотландии его культ можно без особого преувеличения сравнить с нашим культом Пушкина (увы, Бёрнс тоже прожил 37 лет) и австрийским культом Моцарта. День рождения «поэта-пахаря» - национальный праздник, непременно отмечаемый застольями с воспетыми им блюдами суровой горной кухни и виски, носящим его имя, и разумеется, с дружным распеванием его застольных песен. Впрочем, имя Бёрнса носит не только виски, но и сигары, а еще его полупрофиль с характерными удлиненными височками красуется на тысячах сувениров.
Предпосылки для такой народной славы объективны. В конце XVIII века, с появлением моды на «искренние чувства» и «естественное воспитание», Шотландия, к 1707 году окончательно объединившаяся с Англией в Великобританию, была «перепозиционирована» из территории вечных мятежей и смут (только лишь «старый претендент» и «молодой претендент» на лондонский престол чего стоят) в «полудикий край», где живут суровые, но честные и мужественные горцы, свято блюдущие дедовские добродетели. Шотландия стала такой же модной, как в XIX веке модной стала «полудикая» Испания (см. «Кармен» Мериме), а в XX веке - анархические Балканы (см. фильмы Кустурицы).
Тут как раз подоспели «Поэмы Оссаиана» Макферсона (1762) - и жители «культурных столиц» положительно сошли с ума по Шотландии. В 1816 году Константин Батюшков публикует рассказ-эссе «Вечер у Кантемира», где вкладывает в уста русского поэта начала XVIII века слова: «В бытность мою в Лондоне ученый шотландец N. N. показывал мне песни своих горных соотечественников: они напоминают древнего Омера и силою мыслей, глубиною чувств превосходят многие произведения музы италиянской». А еще через сто лет другой русский книжный поэт пишет знаменитые строки:
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
И Роберт Бёрнс такому романтическому «позиционированию» соответствовал идеально. Сын фермера (т. е. лично свободного крестьянина-одиночки) сочинял звучные и складные стихи о любви к родному краю и простосердечным красавицам, о дружеских застольях - причем зачастую его стихи-песни были обработками и «кодификацией» народных песен (как лукавая песенка о девушке Дженни, пережившей маленькое приключение, пробираясь вечером сквозь высокую рожь) - и неудивительно, что они мгновенно уходили обратно в народ. Порою он ехидно продергивал чванливых вельмож и подзабывших евангельские добродетелей святош - но никогда не покушался на верховную власть. «Король лакея своего назначил генералом - но он не может никого назначить честным малым». Остро, смешно, но право королей назначать «генералов» сомнению не подвергается.
Даже в таком радикальном стихотворении, как «Дерево свободы», где с явным одобрением говорится о французской революции и казни Людовика XVI - при переносе действия через Ла-Манш революционный запал становится настолько расплывчатым, что кажется, будто речь начинает идти о Втором пришествии, а не о революции:
Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья, брат!
Важный момент: в качестве языка своих литературных опытов Бёрнс избрал не древний гэльский шотландский и не литературный «лондонский» английский (которым он, будучи образованным человеком, владел не хуже, чем Тарас Шевченко, сравнение с которым неизбежно - петербургским русским), а «равнинный шотландский», или англо-шотландский - диалект английского, изобилующий местными словечками, создающими «национальный колорит» - но не более того.
Вот начало одной из самых известных его баллад, «Джон Ячменное зерно»:
There was three kings into the east,
Three kings both great and high,
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn should die.
На четыре строки - только один диалектизм - hae, и то понятный без сноски - have.
Впрочем, в других его стихах диалектная речь гораздо гуще. Вот начало баллады про Дункана Грея:
Duncan Gray cam' here to woo,
Ha, ha, the wooing o't,
On blythe Yule-night when we were fou,
Ha, ha, the wooing o't,
Maggie coost her head fu' heigh,
Look'd asklent and unco skeigh,
Gart poor Duncan stand abeigh;
Ha, ha, the wooing o't.
Тут уже без словаря не разберешься. И поэтому Роберта Бёрнса за пределами родной Шотландии в англоязычных странах обычно уважают не читая.
Но нам, русским читателям, эти строки прекрасно понятны:
Дункан Грэй давно влюблен,
И в ночь под рождество
К нам свататься приехал он...
Вот это сватовство!
Приехал в праздничную ночь
Хозяйскую посватать дочь,
Но был с позором прогнан прочь.
Ха-ха! Вот сватовство!
Потому что мы знаем их в переводе Маршака. Как и многое другое:
О вы, хранящие любовь
Неведомые силы,
Пусть невредим вернется вновь
Ко мне мой кто-то милый.
Или:
В полях, под снегом и дождём,
Мой милый друг, мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг, от зимних вьюг.
Или даже:
Любовь и бедность навсегда
Меня поймали в сети!
Переводы Маршака можно укорять в спрямлении, в потере национального колорита, в дидактизме - но невозможно отрицать: они сделали шотландского поэта XVIII века действующим лицом русской поэзии века XX. И это чудо заставляет вспомнить не менее эффектное определение поэтического перевода, принадлежащее Брюсову: бросить розу в плавильный тигель и получить на выходе живую розу!
Роберта Бёрнса любят и знают в России. И это уже неотменимо.