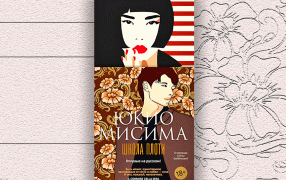Текст: Фёдор Косичкин
Фото с сайта s-marshak.ru
На юбилей советского историка Евгения Тарле Маршак написал — чуть ли не экспромтом - такую эпиграмму:Не только тем нам дорог ТарлеЧто знает он о каждом Карле
Что понят им Наполеон.
Нет, показал его анализ,
Как из Фуше развился Даллес
Из Талейрана — Ачесон.
Этот маленький шедевр, демонстрирующий лучшие черты маршаковского дарования — лаконичность, предельная внятность и при этом обязательно наличие оригинальной мысли, — хочется «применить» и к самому Маршаку, родившемуся ровно 130 лет назад в Воронеже. Итак, чем же нам дорог Самуил Маршак, помимо десятка маленьких шедевров, известных всякому, кто последние полвека рос внутри русского языка?
Во-первых, тем, что эти шедевры детской литературы не висят в безвоздушном пространстве, а, подобно самолётам и птицам, опираются на воздух — на тот воздух русского авангарда, в котором рос одарённый подросток (вовремя, заметим, распознанный и получивший своего рода «частный грант» на образование, в том числе за границей — «отработанный» им сполна). Достаточно непредвзято прочитать знаменитый «Мой веселый звонкий мяч…», чтобы убедиться — это стихотворение, с его необычной звукописью и строфикой, в одинаковой степени можно считать и детским, и авангардным — как «детскими» можно считать картины Пауля Клее и Василия Кандинского.

ЯТебя
Ладонью
Хлопал.
Ты
Скакал
И звонко
Топал.
<…>
Покатился
В огород,
Докатился
До ворот,
Подкатился
Под ворота,
Добежал
До поворота.
Там
Попал
Под колесо.
Лопнул,
Хлопнул,
Вот и все!
Просто сравните с «Призраками» Хлебникова:
Храпеть, хрипеть,Рыдать, стонать, шипеть.
Мы храп и хрип,
Мы шелест, шум и сип.
И это перекидывает мостик к другому уникальному качеству Маршака: он не просто требовательный к себе поэт с чрезвычайно высокой планкой, он незаурядный организатор, «продюсер», как сказали бы мы сейчас. Как известно, именно Маршаку пришла в голову парадоксальная, как тогда казалось, мысль — привлечь к работе «Детгиза» молодых авангардистов-обэриутов.
Это не только говорит о его человеческой порядочности — потому что тем самым он давал безработным и весьма сомнительным с точки зрения властей молодым людям официальный (и притом очень высокий) статус «поэтов», но и о литературном чутье: хоть Хармс и Введенский скрипели зубами и смотрели на детские стишки и рассказики как на тяжелую поденщину, сама природа их дарования, безусловно, была близка детскому мышлению — и мышлению самого Маршака, который называл себя «навеки пятилетним».
Благодаря Маршаку в 20—30-е годы советская детская литература была лучшей в мире.
То же самое можно сказать и про вклад Маршака в советскую школу поэтического перевода.
Я пишу это словосочетание без иронических кавычек. Советская школа поэтического перевода существовала, и еще как! За переводы давали главные премии страны. Сейчас невозможно представить, чтобы за перевод корпуса стихов европейского поэта 500—700-летней давности вручали Государственную премию и прилагающийся к нему миллион рублей. Между тем Лозинский получил Сталинскую премию первой степени за «Божественную комедию», а сам Маршак - премию второй степени (третью из пяти своих госпремий) за сонеты Шекспира. Но даже без премий —
на поэтические переводы можно было жить.
Причем не делая гадостей и подлостей. Поэтому порог вхождения в профессию был очень высок. И профессиональная выучка требовалась неимоверная.
Маршак владел ей как никто.

Возьмем два перевода двустишия Александра Поупа про Ньютона:
Nature and Nature’s laws lay hid in night.
God said: Let Newton be. And all was light.
Вот анонимный перевод начала XIX века:
Чудный закон
Природы крылся.
Но Бог всесильный рёк:
родись Невтон!
Исчезла тьма и свет явился * .
А вот перевод Маршака:
Был этот мир глубокой тьмой окутан.Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Вернулась строфика оригинала, возникла чеканная афористичность. А главное - исчез Бог! Действительно, какое отношение великий физик-материалист может иметь ко всякому религиозному мракобесию? Но при этом исчез не совсем. Тот из читателей, кто был способен опознать слова «Да будет свет!» как библейскую цитату, прекрасно понимал, ктó их произносит. Так что
Маршак не «цензурировал» английского поэта XVIII века — но делал его как бы ближе советскому читателю.
Во всяком случае, представлениям редактора о советском читателе.
Эта установка на понятность простому читателю, а вовсе не вымарывание слова «Бог» — и есть главная черта советской школы поэтического перевода. Книги стихов издавались многосоттысячными тиражами. И они должны были быть понятны.
Поэтому упреки в том, что Маршак упростил и распрямил сонеты Шекспира, что свел многоуровневую андрогинную и алхимическую игру к простейшей ситуации «мальчик девочку любил», совершенно несостоятельны. Маршак писал для широких масс — и не стыдился, а гордился этим.
«Сонеты Шекспира в переводах С. Я. Маршака - явление в русской литературе исключительное.
Кажется, со времен Жуковского не было или почти не было другого стихотворного перевода, который в сознании читателей встал бы так прочно рядом с произведениями оригинальной русской поэзии» - почтительно писал М. Л. Гаспаров (правда, чтобы далее так же почтительно не оставить от них камня на камне).
Но самая блестящая победа Маршака-переводчика — это Роберт Бёрнс.
При культовом статусе этого поэта в родной Шотландии, за её пределами, в «равнинной» Великобритании, он практически неизвестен, потому что читать его англичанину почти так же сложно, как русскому читателю наслаждаться Тарасом Шевченко или Максимом Танком. И поэтому англичане или американцы, приезжавшие в Советский Союз и имевшие случай неформально пообщаться с советскими интеллигентами (например, учеными или инженерами), поражалась славе в СССР их регионального поэта. Еще бы: они не читали ясных переводов Маршака, выполненных идеальным литературным языком, а должны были продираться через оригинал!
| Thou hast left me ever;
Thou has left me ever, Jamie, Thou hast left me ever: Aften hast thou vow'd that Death Only should us sever; Now thou'st left thy lass for aye- I maun see thee never, Jamie, I'll see thee never. |
Ты меня оставил, Джеми,
Ты меня оставил, Навсегда оставил, Джеми, Навсегда оставил. Ты шутил со мною, милый, Ты со мной лукавил — Клялся помнить до могилы, А потом оставил, Джеми, А потом оставил! |
|---|

Впрочем, надо признать, что порою стремление к понятности заводило далеко. Стихотворение Джанни Родари Gli odori dei mestieri заканчивается так:
I fannulloni, strano però,
non sanno di nulla e puzzano un po’.
То есть буквально: «Большие бездельники — вот странно! — ничего не умеют и немного пованивают».
Разумеется, русским читателям не составляет труда вспомнить их русский энергичный аналог:
Только безделье
Не пахнет никак.
Но стихотворение «Чем пахнут ремесла» кончается не ими. Маршак добавляет ударную концовку:
Сколько ни душится
Лодырь богатый,
Очень неважно
Он пахнет, ребята!

Идеологический месседж прояснен. Но точно ли это имел в виду итальянский автор?
В 1957 году, на собственное 70-летие, Маршак опубликовал в «Крокодиле» эпиграмму на себя самого:
Я не молод, - по портрету жЯ сошел бы за юнца.
Вот пример, как может ретушь
Изменять черты лица.
Автор всё-таки немного лукавит:
никакая ретушь в угоду «текущему моменту» была не в состоянии изменить резко выраженные черты его поэтического лица.
Которые мы до сих пор безошибочно различаем.
* Цитируется по книге Геннадия Шингарева (псевдоним Бориса Хазанова) «Мальчик на берегу океана» (М.: Детская литература, 1981)
Ссылки по теме: