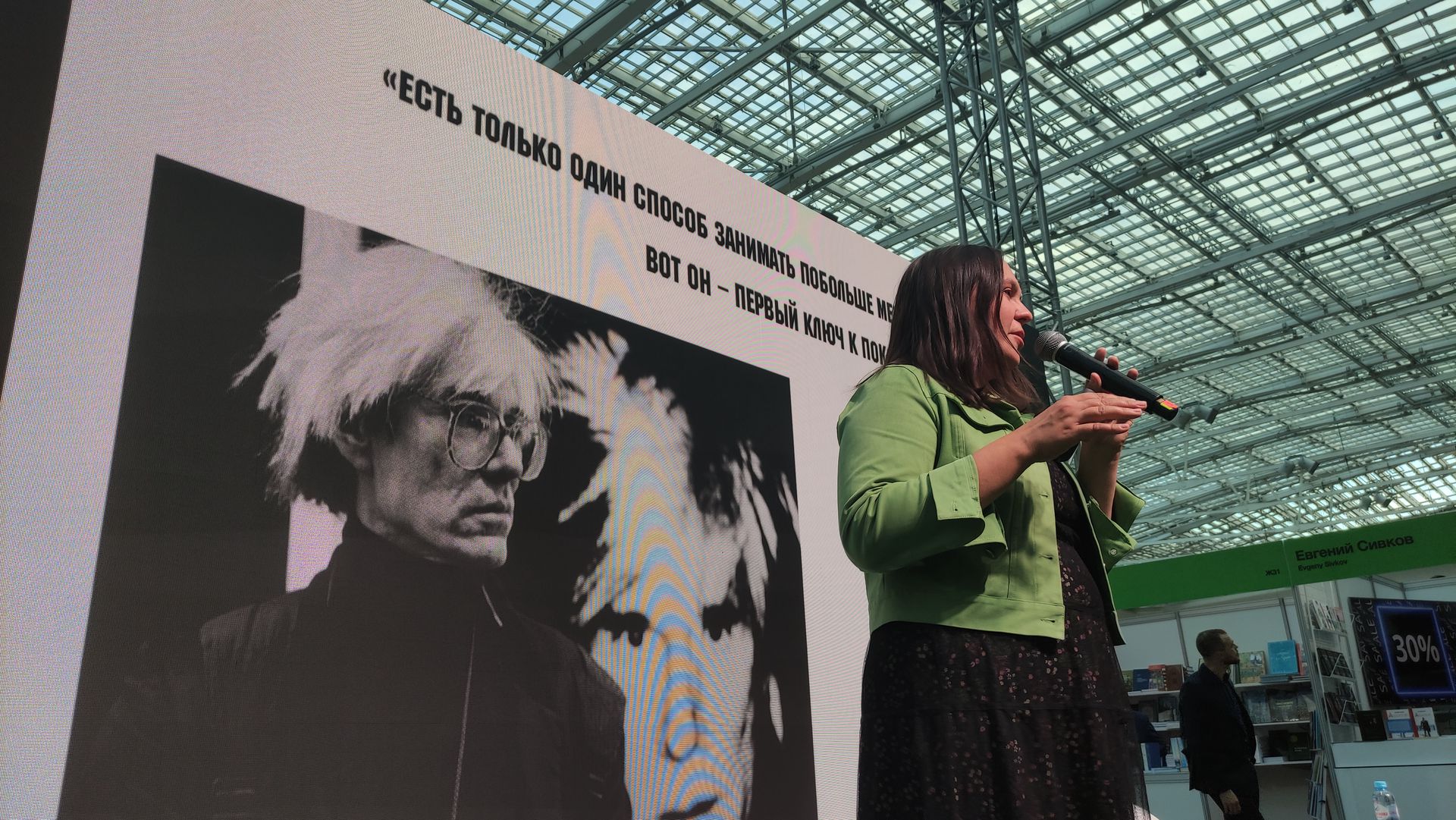Текст: Андрей Мягков
Для кого-то ММКЯ в этом году начинается не с вешалки – хотя погода и располагает, – а с прокламации, которую раздает на входе в Гостиный двор милого вида дядечка. «Читайте хорошие стихи!» – говорит он и сует мне листочек, с двух сторон испечатанный крошечным шрифтом. На нем – немного рифмованных строк и много нерифмованных: какая-то густо замешанная на теориях заговора, нумерологии и легкой шизофрении программа по обустройству России.
Переживая за дядечку, я все же направляюсь вглубь павильона, где начинается дискуссия «Проза поколения: о чём пишут тридцатилетние?» Клариса Пульсон допрашивает там молодых писателей Сергея Кубрина, Анастасию Сопикову и Сергея Лебеденко, недавно выпустивших книги «Виноватых бьют», «Тоска по окраинам» и «(не)свобода».
Впрочем, от «поколенчества» все трое будто открещиваются. «В литературе нет возраста, нет выслуги лет – есть только желание о чём-то писать», – отрезает Кубрин. А Сергей Лебеденко обращает внимание скорее на социально-политической фон, который действительно отличает нынешних тридцатилетних: им (нам) всю жизнь обещали какую-то стабильность, но она никак не случится.
Клариса пытается перевести разговор в сугубо литературное русло – мол, зачем они писали свои книги? – но и здесь неудача. Все трое переглядываются:
– Мне говорят «давай, Настя»…
– Да, ladies first, – подбадривает ее Пульсон.
В ответ Сопикова признается, что мотивация, которая заставила ее «сесть и работать полгода», для нее самой «туманна». В каком-то смысле вторит ей и Кубрин: «Если бы РЕШ не напечатала мою книгу, ничего бы в мире не изменилось». Но тогда и сам Сергей остался бы прежним – а это неправильно, нужно меняться. «То есть такая арт-терапия», – подытоживает Пульсон. Лебеденко в свою очередь считает, что задача писателя – ухватывать то, что «витает в воздухе», и упаковывать это в книгу; затем и пишет. Собственно, его роман напрямую вдохновлен громким делом «Седьмой студии».
На главный вопрос – чем их поколение отличается от предыдущих? – тоже не отыскали вразумительного ответа. Лебеденко ударился в теорию и помянул эксперименты с формой, поэтическое письмо и т.д. «Ничем, – полушутя-полусерьезно шепнула Сопикова. – Но я поняла, что я ощущаю свободу. Не «(не)свободу», а свободу <…> Даже работая над следующей книгой, я чувствую себя свободно, потому что понимаю – всем всё равно». Иными словами, кто бы ни прочитал написанное и что бы по этому поводу ни подумал – какая, в сущности, разница. «Я думаю, не очень-то правильно отличаться от других писателей, – дополнил в том же духе Кубрин. – Не в смысле подражания, а в том смысле, что все мы люди – все мы одинаковые».
Затем стараниями Сопиковой выяснили, что на шашлыки из старшего поколения нужно звать Гиголашвили («потому что грузин»), Акунина («тоже пойдет», хотя книжный «Молодая гвардия» так не считает) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). «Я бы выпила с Пушкиным, но не знаю, как он к шашлыкам вообще», – завершила список Анастасия.
После чего молодые писатели попробовали как-то емко наречь свое поколение и ожидаемо не сошлись в оценках. «Выгоревшее поколение», «тоскующ[ий/ая] по жизни» и «неунывающее поколение» – сами угадывайте, кто из какого.
Следующие пару часов наблюдался дефицит интересных мероприятий, так что я просто бродил по ярмарке с молодыми писателями Анастасией Володиной и Исламом Ханипаевым – обсуждали в том числе, как сегодня издать книгу и не заиметь проблем с компетентными органами; отличная была бы тема для круглого стола.
А после обеда наткнулся на Александра Снегирева, который в дуэте с руководителем информационной платформы благотворительного фонда «Обнажённые сердца» Верой Курбатовой рассказывал об инклюзии – и даже зачитывал фрагменты из новой книги фонда «Как организовать инклюзию в детском саду». На всякий случай: инклюзия – это когда людей, имеющих трудности в развитии (инвалидность, ментальные особенности и т.д.), активно и по-настоящему вовлекают в социальную жизнь.
Посмотрели ролик, в котором мальчик рассказывал об инклюзивном детском саде. «Я не расслышал последнее слово, – уточнил Снегирев. – "Помогать – так же здорово, как жить?"» Оказалось, что «дружить». «А я думаю, какой философский мальчик», – даже расстроился немного писатель.
– Литература для меня выполняет и функцию помощи в том числе, – развил тему Снегирев. – Она помогает понять разнообразие жизни и научиться [его] любить.
– Встречается ли в современной литературе инклюзия? И сразу, забегая вперед, может, 100 лет назад, 200 лет назад тоже про это было? – спросила Курбатова.
– Это вообще тренд времени – забегать вперед, но обращаясь в прошлое. Мы всей страной сейчас бежим вперед в прошлое, – заметил Снегирев.
И рассказал о двух «не лобовых, но философских» примерах инклюзии в литературе. Первый – «Илиада», где на щите Ахилла «в одной модели мира уживается все. Уживаются существа, которые конфликтуют, уживаются враги». А второй пример – Ноев ковчег, в котором «по причине общего бедствия объединились существа, которые вообще друг друга едят, в обычных полевых условиях. <…> И мне кажется, что нам, людям, всегда важно – особенно в критические моменты, когда в нас не самые лучшие наши свойства проявляются – помнить о том, что именно разнообразие и принятие этого разнообразия не является слабостью. Сейчас часто говорят – толерантность, там – но это не слабость, это проявление мудрости, силы, мощи и уверенности. Когда ты позволяешь тем, кого ты, может, не принимаешь до конца… Может быть, тебе не совсем приятны точки зрения и эти люди – но ты принимаешь их право на разность, на инаковость. <…> [Поэтому] важно помнить об инклюзии – потому что она стабилизирует общество. Эта сложность рецепта, по которому устроено общество – она делает его интересней, богаче и в конечном счете стабильнее. Как я вышел… Недаром на политолога учился – все к стабильности привел».
К сожалению, дальше послушать не вышло – программа, оправдываясь за полуденное безделье, оказалась усеяна интересными встречами. По пути на презентацию двухтомной махины Эдуарда Веркина «Снарк снарк» меня поймал какой-то мужичок с потертым фотоаппаратом на шее.
– А что мне делать, если у меня жизнь не получается из-за людей, которые меня ненавидят? – спросил мужичок.
– Не знаю, – ответил я. И правда ведь не знаю.
– Сейчас вот фотоаппарат сломался. Из-за негативной энергии. Потому что я просто человеку не понравился.
Я пожал плечами, и мужичка унес людской поток.
Веркина вновь допрашивала Клариса Пульсон.
– Снарк – это тот самый Снарк?
– Да, это тот самый Снарк, кэрролловский. <…> На самом деле, я не большой поклонник Кэрролла, а одна из моих героинь, которая присутствует в книге, очень его любит. Так что это не моя немножечко заслуга, а ее.
– Что было ядром всей этой истории?
– Ядром истории была история отчасти детективная – исчезновение в лесу двух подростков. И когда оно происходит, вокруг этого начинает разворачиваться такой нуарный детектив с легкими элементами абсурда…
– И мистики.
– И мистики, да. Как без мистики. Главный герой, он против своей воли – ему очень не хочется заниматься всеми этими поисками, детективными делами, но он тем не менее…
– Ну, это ядро книги. А вот ядро замысла. <...> Зернышко-то было какое?
– У меня было не зернышко, у меня был большой посевной мешок. Лет десять назад я попытался эту историю развернуть, целый год потратил, ничего не получилось.<...> В итоге появился новый замысел – ту книгу я оставил. Новый «Снарк…» начал расти-расти-расти – и вполне себе вырос.
– Я просто, знаете, чего от вас хочу добиться…
– Сложно от автора чего-то добиться.
– Не то слово. Но просто хочется, чтобы автор сам понял, если до того не понимал. С чего для вас началась вся эта история, огромная история на два вот таких тома – мы потом сравним с Львом Толстым…
– Можно сейчас, чего уж…
В общем, обаятельная такая беседа получалась. Насчет зернышка пришли к выводу, что Веркину «захотелось запечатлеть» в тексте «дурную бесконечность», которая с ним однажды приключилась. А по страницам – в «Снарк снарк» их полторы тысячи – оно все-таки ближе к «Анне Карениной», чем к «Войне и миру».
Бросив это кино на середине, я отправился на дискуссию Саши Николаенко и Елены Чижовой, где практиковали совсем другой жанр.
– …Бабушка говорит ему чудовищную вещь – что его руками Бог убил родителей, и вот это трудно быть богом – он не выдерживает, – рассказывает Саша Николаенко о своем романе «Муравьиный бог: реквием». – И в тот момент, когда он лез на башню, он буквально меня просил – «Бог, помоги, Бог, помоги», – он просил меня, но я понимала, что я ничего не могу сделать. Эта книга ни разу не придуманная, написанная так, как оно шло. И я следовала за ними [героями], и я хотела его спасти, и я понимала, что спасти его невозможно. И я не помогла. В этой ситуации, когда писатель становится Богом… Может быть, Бог тоже не всесилен? Над Богом Бог?
Вслед за этим у писательниц выяснили, почему их герои такие молодые.
– Я очень люблю наше молодое поколение, – отозвалась на вопрос Елена Чижова, представлявшая на ММКЯ свою последнюю книгу «Повелитель вещей». – Я знаю, чего им не хватает, но я знаю, что у них есть. Все-таки они 30 лет прожили в состоянии относительной свободы. Это то, что формирует человека, это то, что даёт мне надежду. Мне не хочется умирать, зная, что за мной будет выжженное поле. Я несознательно делаю так, чтобы [мой герой] спасся. Я думаю просто, что это поколение спасется. Вот мое поколение – оно, в общем… Не хочется говорить жестко, но вспомним слова, которые кто-то из великих сказал после революции 17-го года – профукали Россию. Мы во многом профукали свои собственные жизни. <…> Мы все равно жили с оглядкой, мы дети несвободных родителей. И разговоры о том, что мы первое непоротое поколение – ерунда. Мы очень даже поротые, мы поротые на каждой политинформации в наших замечательных школах. Я думаю, что нынешние дети все-таки созданы из другого теста. Они созданы из каких-то важных представлений виртуальных – в том смысле, что эти представления не очерчены границами чего-то: семьи, города, страны.
В зале захлопали. А когда микрофон перешел к Саше Николаенко, вернулись к теме Бога.
– Мы говорим о милосердном Боге, но система, которую мы видим вокруг, немилосердна изначально: сильный пожирает слабого. <…> Но человек отличается тем, что ему пришло в голову милосердие. Как оно пришло? Мы ведь противоречим эволюции: мы жизнь отдадим за родителей. Но эволюция – это когда мать отдаст жизнь за ребенка. <…> И возможно, Бог придумал и создал человека, чтобы он изменил эту систему.
Был еще парень в шапочке-бини – его вопрос из зала превратился в долгую дискуссию о том, чем должна заниматься литература. «То, что описывается в ваших книгах, это какая-то искажённая реальность. <…> Хватит копаться в трагедиях, хватит. Нужно видеть в жизни позитив». Но сытый голодного ожидаемо не уразумел.
– Этот жиденок неприятный... – бросил какой-то круглый дядька, проходивший мимо; кажется, об одном известном писателе, выступавшем в этот момент неподалеку на главной сцене. И я понял, что пора домой – поужинать и написать, как стыдно в XXI веке быть антисемитом и вообще проявлять агрессию по национальному признаку.