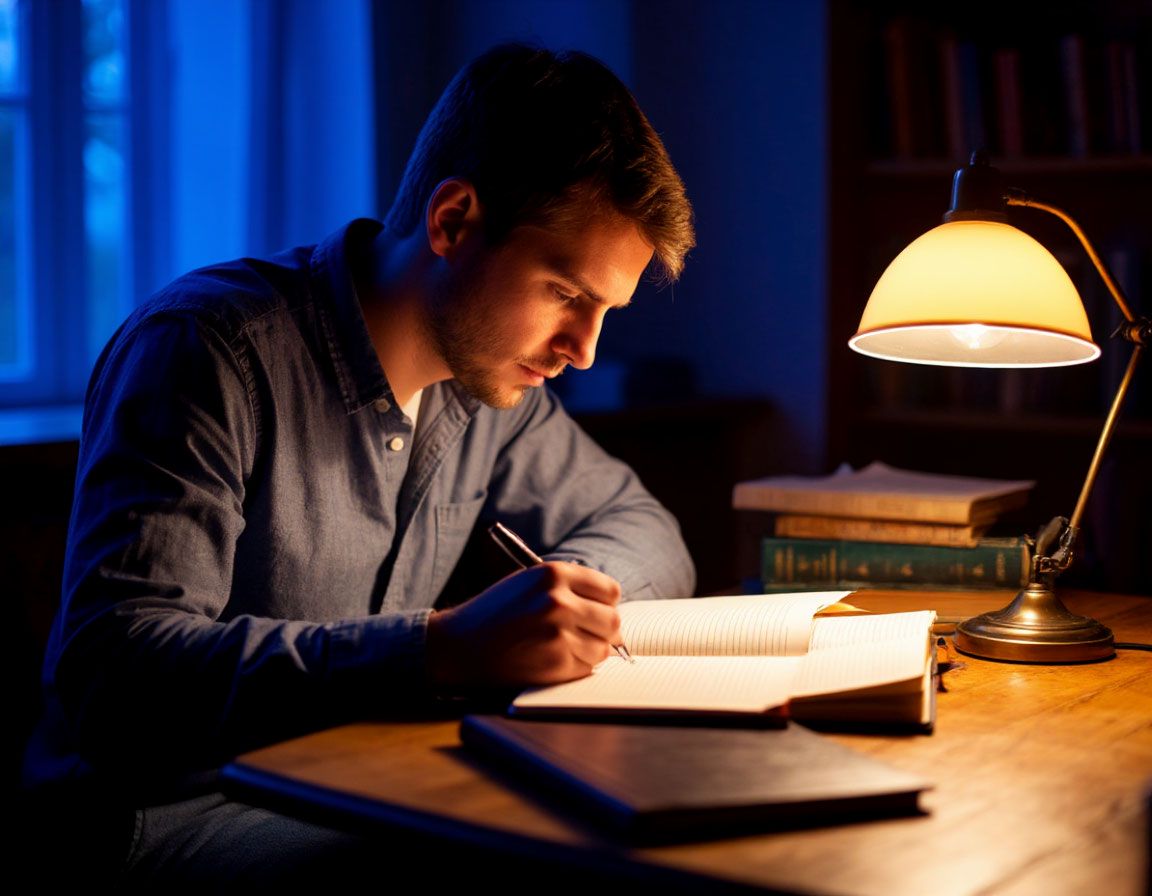Год Литературы активно сотрудничает со студентами и выпускниками Литературного института им. А. М. Горького, в том числе всегда рад принять ребят на практику, потому что студенты именно этого вуза приходят уже с приличным багажом знаний, часто неожиданным подходом к литературоведческим темам и собственным взглядом на ту или иную проблему. И мы всегда даем им возможность высказаться. Этот год не стал исключением: студентка 5-го курса семинара поэзии Олеси Николаевой рассказала нам о своем видении переводческих стратегий, к которым можно обращаться при работе с зарубежной поэзией.
Текст: Софья Фадль
Что делает перевод хорошим? Просто точность? Или, может, способность вдохнуть в текст новую жизнь на другом языке, не убив его дух? Григорий Кружков (р. 1945) — выдающийся переводчик, поэт, эссеист, чьи работы характеризуется тонким чувством языка, пишет: «перевод — это акт любви». И это не просто красивая метафора.
Перевод как выбор
Григорий Кружков — мастер своего дела, который умеет слышать музыку языка, даже если звучит она на другом конце света. В его исполнении переводы становятся не кальками, а полнокровными произведениями. Он не просто передаёт смысл — он передаёт дыхание текста, его ритм, стиль, настроение. Для этого требуется не только знание языка, но и редкая интуиция: почувствовать, как бы это могло звучать здесь, не теряя того, что звучит там.
Интересно, что Кружков вовсе не боится переводить заново то, что уже переведено до него — например, Шекспира. Для него это не вызов и не «исправление» чужой работы. Это — продолжение разговора. Как он сам говорит, его «Король Лир» — это не попытка переплюнуть Пастернака, а просто «вторая по качеству кровать». И да, это тоже цитата из Шекспира.
Если сравнивать: Пастернак — это эмоция, величие и поэтичность. А Кружков — точность, ритм, форма.
Пастернак:
- Корделия, лишенная наследства,
- Твое богатство — в бедности твоей...
Кружков:
- Корделия, ты в бедности своей
- Еще дороже мне, в пренебреженье —
- Желаннее, в несчастии — любимей...
Один — про чувство. Второй — про структуру. И оба — про Шекспира.
Кружкову важно, чтобы русское слово звучало не хуже английского. Особенно это видно в его переводах лимериков Эдварда Лира, где форма — половина смысла. Его «романтичный старик у Везувия» — это не просто шутка. Это стиль, ритм, игра — всё в одном.
Но Кружков — не единственный, кто умеет оживлять чужие строки. Григорий Дашевский — фигура совсем иного плана. Классик, переводчик, поэт, мыслитель. Его переводы — это почти философские реконструкции. Он не просто переносит текст — он его переосмысливает.
Однажды он написал, что берётся за перевод только тогда, когда «трехмерное тело» текста становится для него ощутимым. Звучит мистически, но по сути — очень просто: он должен почувствовать текст так, словно тот стал частью его самого.
В переводах Дашевского классика звучит неожиданно современно. Он не боится остроты, ломаного ритма, даже жёсткости — особенно в поэзии Уильяма Блейка. Вот, например:
- Мать стонала; отец плакал.
- Страшен мир, куда я выпрыгнул,
- гол, беспомощен, вереща,
- будто бес укутан в облако...
Это не просто красиво. Это болезненно. Живое. Настоящее.
Что в итоге? У Кружкова — любовь и точность. У Дашевского — дерзость и философия. Оба поэта очень разные. Но в их переводах одна цель: оживить текст. Сделать его слышимым, зримым, ощутимым. Даже если он был написан на другом языке и в другой эпохе.
И это, пожалуй, главное: хороший перевод — это не копия. Это встреча. Твоя — с чужим текстом. А иногда — и с собой.
Доместикация и форенизация: два берега одного перевода
Как же выбрать, каким должен быть перевод — «своим» или «чужим»? Это извечный вопрос, который в профессиональной среде называют спором доместикации и форенизации.
Доместикация — это когда перевод старается быть понятным, привычным, почти родным для читателя. Словно бы текст всегда был написан на русском — без культурных «заноз», без непонятных реалий и чужих образов. Это подход, при котором смысл важнее формы, а комфорт читателя ставится выше «экзотики оригинала».
А форенизация — наоборот. Это честное признание: да, текст пришёл из другой культуры, и пусть это будет видно. Пусть читатель почувствует себя немножко иностранцем — потому что только так он сможет соприкоснуться с настоящим духом оригинала. Это как путешествие в другую страну: непонятно, но захватывающе.
Обе стратегии по-своему хороши. Всё зависит от цели. Если хочешь разговор — делай ближе. Если хочешь показать мир во всей его инаковости — оставь границу.
Самая известная переводческая премия
В свете нашей темы, невозможно обойти стороной знаменитую Нору Галь.
Если говорить о русском переводе в XX веке, Нора Галь — женщина, которая не только переводила, но и учила переводить. Её книга «Слово живое и мёртвое» до сих пор считается библией для начинающих переводчиков. Она боролась с механическим переносом слов, с безжизненной буквалистикой, с «англицизмами в русской упаковке». В центре её метода всегда был смысл, ритм, звучание — живой язык.
Где кончается английское стихотворение и начинается русский текст.
Именно такие вещи делает Премия Норы Галь особенно значимой. Она не просто отмечает хороший перевод — она ищет тот самый момент, когда перевод становится литературой, когда он живёт своей жизнью, но не предаёт оригинал.
Что же объединяет таких разных переводчиков, как Кружков и Дашевский?
Каждый из них делает перевод частью своей поэтики. Это не просто работа — это продолжение собственного художественного высказывания. Это стратегии. Разные взгляды на то, что такое перевод, зачем он нужен, и каким он может быть.
И, возможно, главное здесь: перевод — это не подчинение. Не слепая точность. Это диалог. Это акт любви, как сказал Кружков. Это создание нового смысла, как делал Дашевский.
Великий перевод — это когда ты читаешь и забываешь, что читаешь перевод.