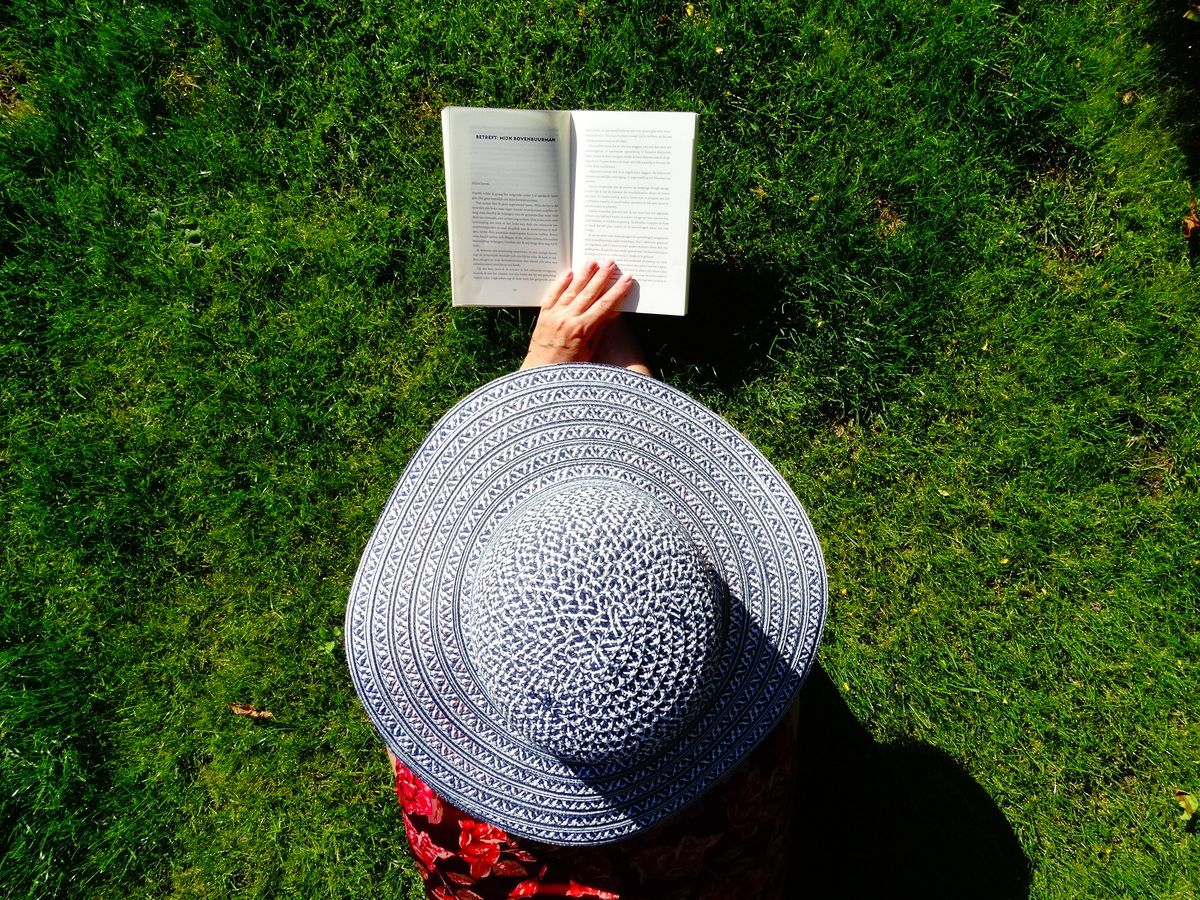Подготовил Андрей Мягков
С одной стороны, до конца лета остался всего месяц. С другой — это целый месяц, за который можно успеть много всего перечитать. Даже если вы писатель — ведь писателям, как известно, ничто читательское не чуждо.
Мы расспросили авторов, что они прочитали, читают или собираются прочитать, пока не наступила осень — и с радостью публикуем ответы. Глядишь, и вы найдете здесь книгу по себе.
Иван Шипнигов
В июле на даче прочитал «Мертвые души». Был потрясен. Сначала выписывал с каждой страницы по две-три цитаты, потом бросил: там весь текст цитата («Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке...»). Теоретически я всегда понимал, что текст должен быть интересен на всей своей «площади», в каждой своей фразе, и отдельные слова нельзя убрать без сожаления. Но только сейчас я узнал, что такой текст существует.
В «Мертвых душах» нет «воздуха», «романного дыхания» и прочих пустот, необходимость которых доказывают любители необязательной прозы, написанной предсказуемо и бесстрастно, как офисный отчет. В лирических отступлениях текст становится только плотнее («Он окурил упоительным куревом людские очи»).
Мощный художник работает даже не с отдельным словом, а с формой слова. От ощущения себя хозяином языка появляются грамматические вольности и стилистические «ошибки» Гоголя, которые отличают великий текст от нормального: «...другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней». Если сейчас показать такое в виде неизвестной рукописи редакторам художественной литературы, скажут, что так нельзя, ненормативно, неправильно.
Не надо, как Гоголь. Не надо умирать молодым от запущенного психоза, оттого, что следующая книга не получается такой яркой, как предыдущая.
В общем, до конца лета я хочу прочитать программу 9 класса, на очереди «Герой нашего времени» Лермонтова. Сначала это было нужно для одного дела, сейчас кажется странным, что это открылось мне только теперь. Хотя когда еще? — ведь не в 15 лет нужно примерять на себя характеры героев Гоголя, представлять, что у меня в старости будет синдром Плюшкина наоборот и говорить жене: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек».
Еще на даче за один присест, не отрываясь, прочитал «Личные мотивы» Софьи Ремез. Совместно нажитое пополнилось коллекционным диалогом:
- — Почему вы все так быстро ее читаете?
- — Быстро пишется — быстро читается.
Татьяна Млынчик
Вот, что я читаю этим летом.
Дебютный роман Михаила Левантовского «Невидимый Саратов». Это история мужчины, который превратился в заколку-невидимку собственной жены. Я исследую мир поэта и прозаика Левантовского, потому что в августе он придет в качестве гостя в мой подкаст о литературном мастерстве «Два авторских».
Мрачный роман австрийского мистика и эксцентрика Густава Майринка «Голем». Майринк, помимо всего прочего, был банкиром и однажды загремел в тюрьму по обвинению в использовании колдовства в бизнесе. «Голем» вышел во время Первой мировой и обрел невероятный успех. Разбираюсь с этим многослойным текстом с начала лета.
Медленно продвигаюсь по «Анархизму и искусству авангарда» Ольги Бурениной-Петровой. Размышление исследовательницы о связи русской литературы и искусства с анархическими идеями погружает в любимый исторический период и дает богатую пищу для размышлений во время долгих заплывов в ледяной речке.
Ислам Ханипаев
Продолжаю изучать лучших представителей научной фантастики и фэнтези и иногда разбавляю их современной прозой. План такой:
«Гиперион» Дэна Симмонса. Миллион лет в вишлисте.
«Волкодав» Марии Семёновой. Без Волкодава русское фэнтези не понять.
«Демоны» Джо Аберкромби. Любимый автор, читаю то, что сам бы не написал.
«Двести третий день зимы» Ольги Птицевой. Давно хотел почитать автора.
«Дети времени» Адриана Чайковски. Говорят, лучший автор научфанта последних лет.
«Многорукий бог далайна» Святослава Логинова. Говорят, лучший представитель русскоязычного фэнтези. Не люблю чрезмерную философию в книгах, но попробую.
«Империя тишины» Кристофера Руоккио. В Штатах расхваливают.
«Сады луны» Стивена Эриксона. Очередная попытка в Малазанский цикл. Бесит.
«Право большинства» Джеймса Ислингтона (не знаю правильного перевода на русский). Слишком много положительных отзывов, чтобы не читать.
Только что прочитал «Крадущийся в тени» Алексея Пехова. Неожиданно очень качественное фэнтези, не уступающее лучшим мировым хитам.
Читаю сейчас «Опиомную войну» Ребекки Куанг. Пока слишком подростково.
Надя Алексеева
Легкое чтение для лета и пляжа я не ищу. Уж если я на природе, то предпочитаю быть там без книг: смотреть, слушать, радоваться волнам или зелени. Для одного проекта читаю все о Велимире Хлебникове. Оказывается, он был не только поэтом и математиком, но и орнитологом. Для удовольствия перечитываю «Театр» Моэма, а для души — «Идиота» Достоевского. Оба выбора совершенно интуитивные: почему рука потянулась к этим книгам, смогу объяснить постфактум, возможно, что-то найду для нового романа. Из нечитанного положила глаз на сборник рассказов «Мужчины без женщин», где Харуки Мураками исследует тему одиночества. Один из рассказов, «Сядь за руль моей машины», очень удачно экранизирован. Там корейцы, китайцы и японцы ставят «Дядю Ваню», а у режиссера этой труппы своя чеховская трагедия. В общем, теперь мне интересно прочесть остальное.
Игорь Белодед
Как это обыкновенно бывает, я читаю несколько книг разом. Почти завершил замечательное исследование советской повседневности, написанное Алексеем Юрчаком («Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение»). Не уверен, что такие понятия, как «гипернормализация» или «детерриториализация», описывают точно происходящее в Советском Союзе в 1970-80-е гг., но само желание сломить парадигму безмолвствующего большинства, которое ведут сквозь туман тоталитаризма единицы диссидентов, чающих свободы, уже похвально. Вообще, судя по книге, поздний социализм до боли напоминает нынешние времена развитого традиционализма: свобода вообще редко посещает русскую землю, и отчего-то лишь тогда, когда сама земля эта имеет свойство уходить из-под русских ног.
До Юрчака я прочел еще одно замечательное исследование советского быта, чурающееся теоретизирования, но потому, может быть, и более живое, а именно книгу Наталии Лебиной – «Пассажиры колбасного поезда».
Из прозы дочитываю повесть советского прозаика, бывшего редактора «Нового мира» Сергея Залыгина – «На Иртыше». Как будто я ожидал худшего, но пока все идет даже хорошо. Перечитываю прозу Дмитрия Бакина – его сборник «Про падение пропадом». Влияние западной прозы на него заметно невооруженным взглядом, и оттого поразительно, как в своих вещах он борется с этим влиянием, дрессируя русский язык экзерсисами высокого модернизма.
Надеюсь завершить чуть ли не на этой неделе роман Джозефа Макэлроя – «Плюс». Один из самых малых его романов – про мозг инженера на околоземной орбите. Звучит интригующе, даже дурновкусно. На самом деле собственно сюжета в романе кот наплакал, за что ему спасибо. Не уверен, что этот роман понравится рядовому читателю, но иные книги – как будто бы раздвигают рамки самого искусства прозы – не важно, можно ли потом использовать эти рамки подо что-нибудь, или нет, это вопрос второй очередности. Важно, что иногда проза может преодолеть, скажем, свою фигуративность, как в свое время это удалось живописи.
В ближайшее время начну читать роман Ильязда – «Восхищение». Странным образом, он идет в связке с Макэлроем: теоретик русского дада делает поклон самому непримиримому из американских постмодернистов сквозь десятилетия.
Анна Чухлебова
Начала читать «Совиную тропу» Павла Крусанова. У меня сверхспособность: я могу читать чужое и не цеплять стиль, когда активно пишу сама. В то же время, когда пишешь, полезно читать тех, чьему вкусу к слову доверяешь. Я называю это “помыть глаза”. Вот, мою глаза новым Крусановым, чего и вам желаю.