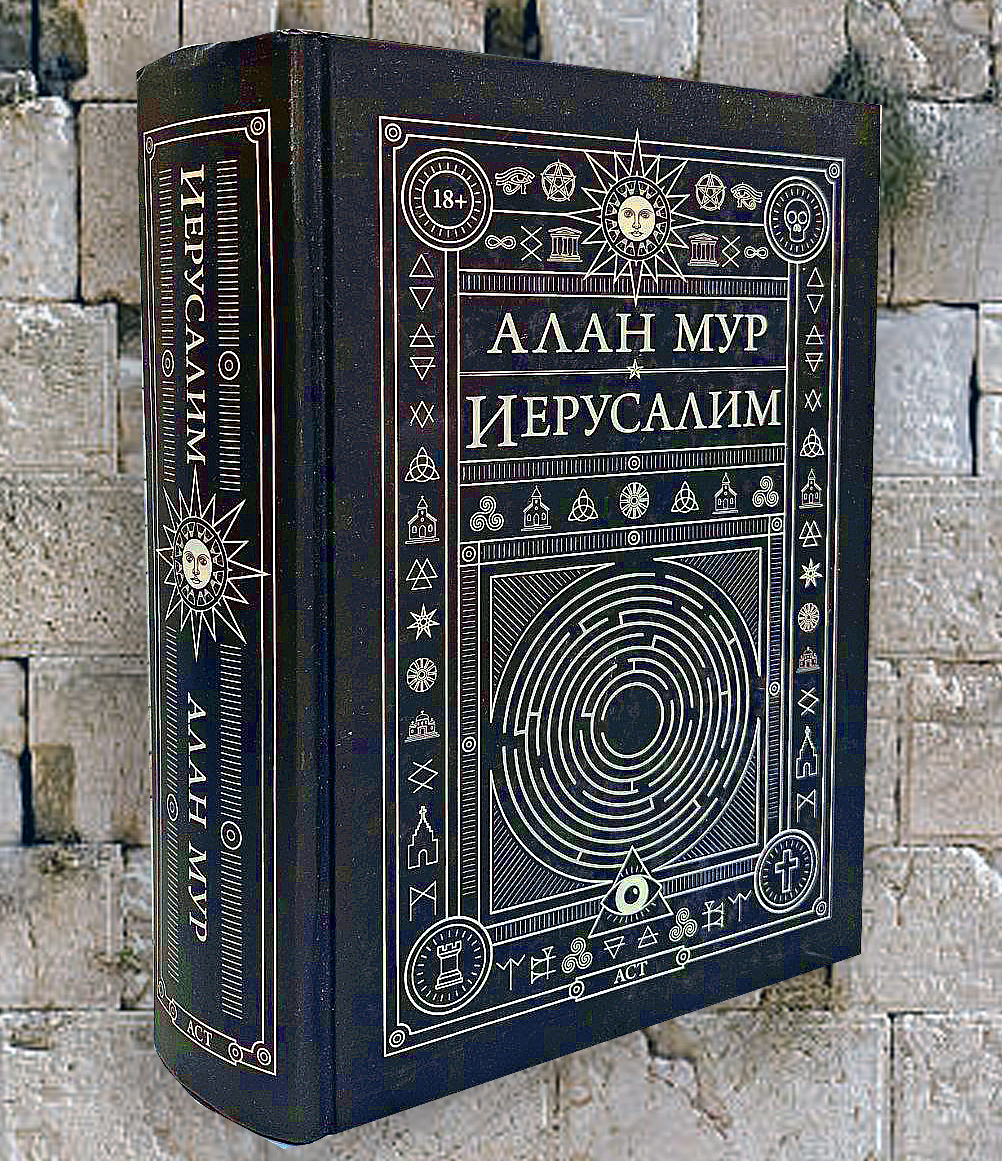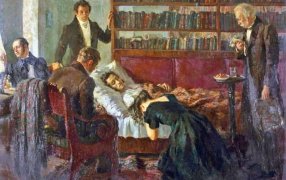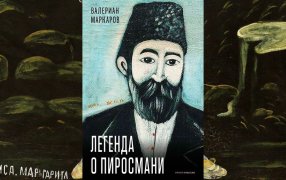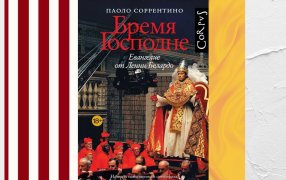Интервью: Михаил Визель
Ася Петрова (С.-Петербург):

Я перечитываю французскую классику в оригинале и в переводах, пытаясь понять, что в ней было и есть привлекательного для российской аудитории, а что совершенно чуждо и не поддается расшифровке. Мне интересен процесс как переводчику и, конечно, с издательской точки зрения. Например, беру в руки любимого с юности Пруста, безумно хочу переиздать или сделать из него арт-бук, но сознаю, что единственный и пока еще не законченный настоящий перевод — это перевод Елены Баевской.
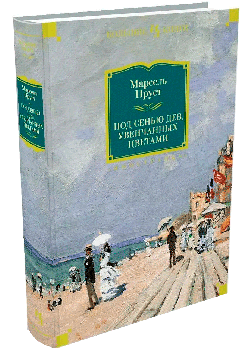
Остальное мне стыдно было бы предлагать читателю. И я искренне не понимаю, как великие переводчики брались за Пруста, Флобера… не чувствуя авторской интонации. Неужели у них не звучала в голове музыка французского текста? Неужели они не ощущали запахи, которые и Пруст, и Флобер описывают так, что руками можно потрогать?
Мне сегодня даже приснился Париж, а затем какая-то французская провинция, я во сне пыталась объяснить собеседнику значение двух выражений Пруста. Так и не объяснила, кстати, и очень расстроилась, когда проснулась. Я хочу освежить в памяти Мериме, который всегда казался мне сто раз интереснее Мопассана. И опять-таки задаюсь вопросом: почему Мериме вышел из моды? Как и Пруста, его покупают, чтобы поставить на полку, а не для того, чтобы читать. Может быть, эпоха изменилась? Может быть, для чтения французской литературы (опустим очевидную проблему перевода) надо больше времени, больше напряжения? Как говорят в школе: «А давайте вдумаемся в то, что хотел сказать автор». Не думает голова, лень. Лень расшифровывать литературу. Для французского сознания при чтении оригинала такие усилия не требуются. Тексты входят легко. Даже современные, даже очень сложные. Многие из них не переведены на русский язык и скорее всего — никогда не будут.
Я постоянно возвращаюсь мыслями к своей любимой Оливии Розенталь, хочу ее перевести, но с ужасом представляю, что книга просто ляжет на складе, потому что российское сознание, по крайней мере сегодня, не настроено (как инструмент) под французские тексты. Но будем надеяться…


Роман Сенчин (С.-Петербург):
Еще прошлым летом я купил в букинистическом магазине собрание сочинений Сергея Аксакова в пяти томах. Тома, вернее, томики, нетолстые, легкие, их удобно читать лежа или сидя в глубоком кресле… Аксакова я читал, но кусками, урывками, а после пятидесяти потянуло посмаковать его повести-исследования об охоте, рыбалке, «Семейные хроники», воспоминания… Времени пока на такое чтение-смакование не нашлось. Надеюсь, август подарит мне тихие, свободные дни. Кресло, столик с чаем и свежим вареньем, раскрытое окно и колышущиеся занавески, книга Аксакова...
Марина Тараненко (Королёв):

Моё летнее чтение:
Утхит Хемамун «Сказители» — семейная сага, в которой повествование идёт от лица нескольких героев, и всё это переплетается с историей и мифологией Таиланда.
Алексей Сальников «Когната» — хотела погрузиться в альтернативный мир Сальникова ещё в прошлом году, но добралась только сейчас.
И, конечно, в моём летнем чтении есть книги для детей и подростков. Оксана Заугольная «На территории лагеря обращаться запрещается». Детский лагерь в Карелии и приехавшие туда фальшивые детские писатели, у которых коварные планы, — отличная книга для летнего чтения))


Александр Чанцев (Москва):
Позволю себе из занудства и для дальнейшей ясности чуть скорректировать формулировку вопроса. Работаю я не в литературных областях, поэтому должен там, а не здесь, т.е. — могу читать, что Бог на душу положит (и слава ему за это). Положил же он мне, в числе недавних прочих, три-четыре книги, которые укладываются в своеобразную линию. Это книги как раз профессиональных литераторов о других писателях.
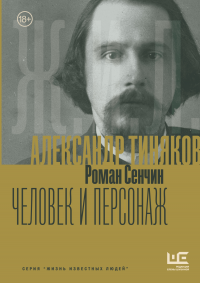
«Александр Тиняков. Человек и персонаж» Романа Сенчина понравился всем — и настоящим интересом автора к своему герою, и явно долгой архивной работой, и сдержанной интонацией там, где, возможно, с другими исследователями и дискурсами Сенчину поспорить как раз и хотелось. Отлично и ярко, как и сам Тиняков.
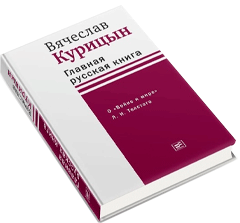
«Главная русская книга. О “Войне и мире”» Вячеслава Курицына работает в более сложных условиях: эпопея Толстого – не биография Тинякова, известна всем со школьных обгрызенных ногтей, не так просто сказать о ней так, чтобы было интересно. А у Курицына интересно. Правда, лично мне в конце этого объемного close reading, разбора всех деталей и деталек, не хватило какой-то большой мысли, генеральной идеи.
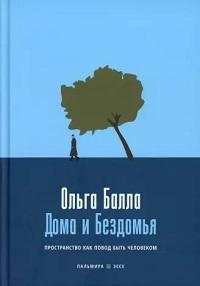
Но вполне возможно, это отнюдь и не входило в авторские планы: любовная и ироничная работа, а не выводы в конце школьного сочинения.
Третьей книгой был очередной сборник Ольги Балла «Дома и Бездомья. Пространство как повод быть человеком», сборник как собственной эссеистичной рефлексии над темами пространства, так и многочисленных статей о соответствующих книгах. Что Балла прекрасна, говорить и смысла нет, а детальнее о книге я выскажусь подробно буквально на днях, не хотелось бы повторяться.

Четвертой книгой стала бы, скорее всего, «Критик за правым плечом. Избранные заметки о классиках, современниках, литературном быте» Бориса Кутенкова, сборник его заметок как о литературе самой что ни на есть современной, так и классической (того же Толстого включая).
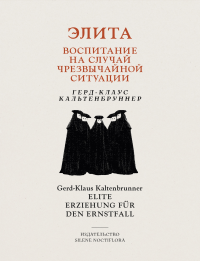
Но книга до сих пор не достигла меня из-за томной летней неспешности фельдъегерских служб (надеюсь, они исправятся).
В летнем же чтении, что вопрос как раз подразумевает, заложена своя специфика. Это, если огрублять и спрямлять, чтение тяжелой классики и новинок той или иной степени легкости. За классику отвечает среди пятерки моих ближайших книг очередной том из собрания сочинений Достоевского — не знаю уж почему, но общение с его СС (собранием сочинений. – Ред.) складывается у меня в последний год совершенно упоительное. За новинки же отвечает «Элита» Герда-Клауса Кальтенбруннера от молодого и амбициозного (но серьезного весьма при этом) издательства Silene Noctiflora — тут знакомства еще не свел, но общение, уверен, будет занятным.

Анастасия Шевченко (Москва):
Все лето освежаю в памяти — в связи с участием в нескольких приуроченных к столетию Аркадия Стругацкого проектах — книги АБС, их биографии и дневники. Последнее по времени — масштабная антология «Неизвестные Стругацкие: черновики, рукописи, варианты», «Град обреченный» (это по работе) и «Гадкие лебеди» (а это по любви ежегодно уже лет 30). Думала, что для работы, но оказалось, во многом и для души: Антуан Компаньон «Демон теории. Литература и здравый смысл» — элегантно бунтарское, остроумное и, несмотря на заявленную и оправданную академичность, действительно увлекательное чтение.
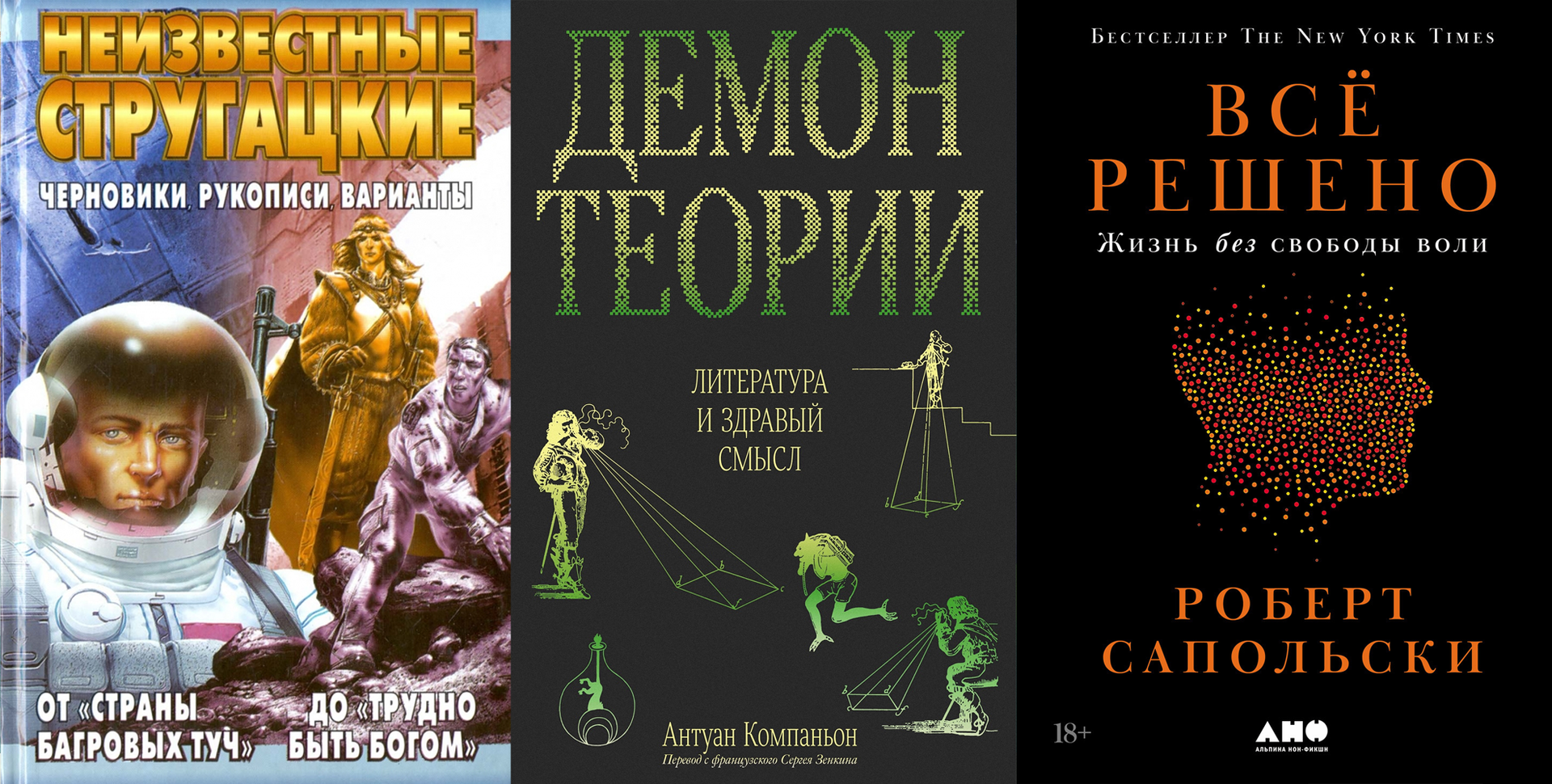
Для общего развития «Все решено. Жизнь без свободы воли» Роберта Сапольски: когда я от усталости или в плохом настроении перестаю рационализировать реальность, на помощь приходит мудрый и печальный нейробиолог, объясняющий примерно все сложности нашего затейливого экзистанса простыми механизмами, заложенными самой природой. Ну и никак не связанное с подступающим сезоном, просто Книга, Которую Хочется Однажды Все Же Дочитать: Алан Мур «Иерусалим» — масштабнейшая сага, срез срезов и кубок кубков, без малого 1500 страниц мрачного, саркастичного, недоброго и замороченного в фирменном муровском стиле повествования. Приключение, на которое надо бы выделить несколько вечеров (вместе с днями) кряду, но получается только урывками, с люфтом в пару недель, а то и месяцев.