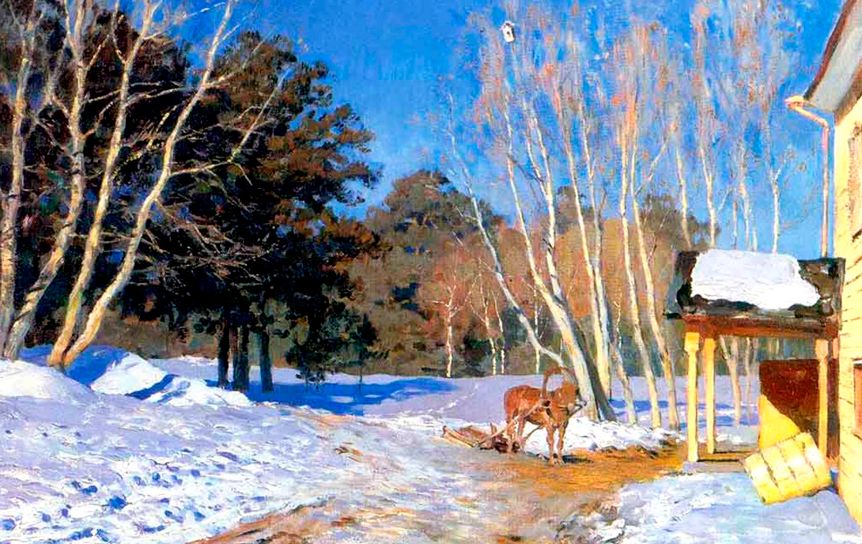Текст: Ксения Букша
Фото: Почтовая марка СССР, 1959 год /ru.wikipedia.org
«Со взглядом пьяным, взглядом узким, приобретенным в погребу, себя зовет Шекспиром русским гостинодворский Коцебу», - такую эпиграмму написал на Островского злоязычный поэт и сатирик Николай Щербина. Оно и понятно: Щербина обожал Древнюю Грецию, античность; а тут — купцы, нищие актёры, бойкие свахи, маменьки, разорившиеся дворянчики и тому подобные персонажи. Совсем не величественно, а значит, и не эпос вовсе. Однако недаром сказал Алексей Константинович Толстой про Пушкина: «Когда бы не было тут Пресни, от муз с харитами хоть тресни». Островский пошёл дальше: у него Харита, кажется, только одна — Огудалова, маменька бесприданницы Ларисы. И всё же пьесы Островского, числом более сорока, - эпос ничуть не мельче шекспировского. В каждой из них — абсолютно в каждой — есть свои большие и малые боги. В каждой свой Зевс, то грозный и злой, неправедный (Дикой в «Грозе»), то патриархально великодушный (царь Берендей в «Снегурочке»). В каждой — своя Гера, то тёплая и колышущаяся (маменька Бальзаминова), то истуканистая и жуткая (Кабаниха). А Гермесов, Гермесов-то сколько! Начиная с Подхалюзина («Свои люди — сочтёмся» - скипетр украл у Зевса-Большова, «купеческого короля Лира»), и далее везде — юркие проходимцы-деловары. Есть и свои герои. Кто там мечтал летать, как птица, да крылья не выдержали?
«Величественность» эпоса — в его обобщенности. Но герои эпоса никогда не действуют в безвоздушном пространстве. «Сам Бог не сумел бы создать ничего, не будь у него матерьяльца» (как сказал, на этот раз, Гейне). Для создания эпоса нужна прежде всего земля, вернее, клочок земли, участок, некий, скажем так, «топ» (от древнегреческого τόπος - очерченное место). Конечно, таким топом мог быть Олимп. Или — гамлетовская Дания (кто её видел, эту Данию?) У фолкнеровского эпоса — свой топ. У Шервуда Андерсона — Уайнсбург, Огайо. У Венички Ерофеева Петушки. У Островского это Замоскворечье, Касимов/Бряхимов — кто их видел? Никто не видел и в то же время видели все; и у каждого, кто Островского прочел или посмотрел, создаётся полное ощущение, что он эту землю съел, как хлеб с солью. Это «внутреннее Замоскворечье» позволяет мыслить любой конфликт в терминологии островских пьес. И таковая система координат описывает реальность даже полнее, чем гениальные крайности Толстого или Достоевского. Потому что Островский — драматург от мира сего. Или, лучше сказать, драматург мира сего. Островский именно что не интересуется личностями и драматическими коллизиями конкретных характеров или, того хуже, социальных типажей. Ему интересны именно сотрясения климатического масштаба, грозы в человеческом сердце, столкновения чистых и крупных чувств: Злость, Месть, Жадность, Любовь, Великодушие. И описывает он именно такие атмосферные явления. А что на примере купцов — извините, топ такой. У кого-то рыба и шаман, у кого-то рубль и купец. (Как в задачниках тех же времен: «наживал каждый год по полушке на каждую копейку...»)
Впрочем, его собственным топом, как и топом Шекспира, на самом деле был театр. Островский — гений театра, его добрый «Боженька». Важно подчеркнуть, что именно добрый, не Карабас-Барабас, ломающий актёров и приклеивающий маски к лицам. И для Шекспира, и для Островского театр — это мир (и наоборот), и неважно, насколько этот мир мал или велик, насколько богаты декорации, благосклонны власти, насколько утончены или грубы вкусы публики... Важно, чтобы в театре был свет, чтобы у актёра и драматурга был хлеб; чтобы тепло становилось каждому в зрительном зале, чтобы этот мир жил каждый вечер. Островский в своих статьях и письмах радеет и за комедианта, и за публику. Нужно хорошо платить сочинителю и актёру. Нужно ставить хорошие пьесы, которые трогают сердца. Нужно не дать пропасть талантам. Островский, как и Шекспир, любил своего зрителя! Они, работники «развлекательной индустрии», делавшие пьесы одну за другой, твёрдо знали то, о чем забыли сейчас многие продюсеры и даже режиссеры. Была ли тогдашняя публика более развитой, чем сегодняшняя? Нет! Но есть ум сердца, и на него Островский делал ставку.
Так какой же он, этот русский эпос? Какие выводы мы из него сделаем? Главный вывод, конечно, в том, что над всеми нашими земными богами есть настоящий Бог, как бы ни переиначивали его роль участники представления и почтенная публика. И он — в отличие от тех, которые на подмостках, да и от тех, которые в зале, - чужд корысти и злобе. Он, Драматург, всем воздаст по заслугам. Только уже не здесь. Ну, а здесь будет, конечно, ещё много смешного и горького; выйдет навеселе какая-нибудь Ниловна, потрясёт кошельком Телятев, властно возьмёт своё Паратов, истерически взвизгнет Карандышев, злая безмужняя сестра скажет как отрежет, маменька попричитает, поплачет вдова, и обманет сын отца, и не совладает с чувствами дочь... и кончится всё, скорее всего, тоже смешно или горестно. А справедливость восторжествует уже не на сцене, а на просторах зала. В душах зрителей.
Ссылки по теме: