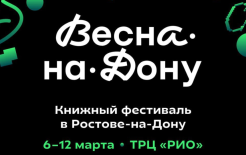Текст: ГодЛитературы.РФ
Даль был почти ровесником Пушкина – всего на два года моложе. «За словарь свой, – свидетельствовал историк Бартенев, – Даль принялся по настоянию Пушкина». Пушкин «деятельно поддерживал его, перечитывая вместе с ним его сборник и пополняя своими сообщениями».
Первая встреча произошла в 1832 году. Познакомить Даля с Пушкиным обещал Жуковский, однако Даль решил, не дожидаясь, лично представиться поэту. Скорее всего, от общих знакомых – Жуковского, Языкова, Плетнёва или Одоевского, – Пушкин уже слышал о Дале, но тем не менее: Пушкин – знаменитость, Даль – почти неизвестный в литературе автор, врач, морской офицер в отставке... Он решил подарить Пушкину один из немногих сохранившихся экземпляров своих «Русских сказок», за которые был арестован.
Сам Даль писал: "Я взял свою новую книгу и пошёл сам представиться поэту. Поводом для знакомства были «Русские сказки. Пяток первый Казака Луганского». Пушкин в то время снимал квартиру на углу Гороховой и Большой Морской. Я поднялся на третий этаж, слуга принял у меня шинель в прихожей, пошёл докладывать. Я, волнуясь, шёл по комнатам, пустым и сумрачным — вечерело. Взяв мою книгу, Пушкин открывал её и читал сначала, с конца, где придётся, и, смеясь, приговаривал «Очень хорошо».
В ответ Пушкин подарил Далю рукописный вариант своей сказки «О попе и работнике его Балде» со знаменательным автографом: «Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Луганскому, сказочник Александръ Пушкинъ».
И для Даля, и для Пушкина все слова народного языка были интересны, все любимы, сказки не были «неблагонамеренными» и «слов низкого происхождения» не существовало.
«Сказка сказкой, – говорил Александр Сергеевич, – а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, – надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя ещё! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не даётся в руки, нет!»
Через год, в сентябре 1833 года, Даль сопровождал Пушкина по пугачёвским местам Южного Урала, – в Оренбург Даль был переведен в качестве чиновника по особым поручениям при военном губернаторе (на этой должности он прослужит около восьми лет). Два дня провели Пушкин и Даль неразлучно, историю и этнографию Оренбургского края Даль к этому времени изучил и оказался полезным проводником.
Из воспоминаний Даля о Пушкине
«Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора В. Ал. Перовского, а на другой день перевёз я его оттуда, ездил с ним в историческую Бердскую станицу, толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачёвым; указывал на Георгиевскую колокольню в предместии, куда Пугач поднял было пушку, чтобы обстреливать город, — на остатки земляных работ между Орских и Сакмарских ворот, приписываемых преданием Пугачёву, на зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться по льду в крепость, открытую с этой стороны; говорил о незадолго умершем здесь священнике, которого отец высек за то, что мальчик бегал на улицу собирать пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов в город вместо картечи, — о так называемом секретаре Пугачёва Сычугове, в то время ещё живом, и о бердинских старухах, которые помнят ещё „золотые“ палаты Пугача, то есть обитую медною латунью избу.
Пушкин слушал всё это — извините, если не умею иначе выразиться, — с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту: Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошёл также в церковь. Народ расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошёл прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: „Как я давно не сидел на престоле!“ В мужицком невежестве своём он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньёй и много хохотал».
В 1835 году Пушкин прислал Далю в подарок «Историю Пугачёва» с автографом.
А в конце 1836 года Даль приезжал в Петербург и встречался с Пушкиным. Тому очень понравилось услышанное от Даля, ранее неизвестное ему, слово «выползина» — шкурка, которую после зимы сбрасывают змеи, выползая из неё. Зайдя к Далю в новом сюртуке, Пушкин пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползины я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» После дуэли с Дантесом «выползину» пришлось разрезать, чтобы не причинять раненому лишних страданий.
Узнав о дуэли, Даль приехал к умирающему Пушкину и оставался с ним до самой кончины. Под руководством Н. Ф. Арендта вёл дневник истории болезни Пушкина.
Из "Записок В. И. Даля о смерти А. С. Пушкина"
Записка доктора Даля напечатана впервые въ «Медицинской Газетѣ» за 1860 годъ, № 49, и затѣмъ не разъ перепечатывалась
28-го Генваря, во втором часу полудня, встретил меня г. Башуцкий, когда я переступил порог его, роковым вопросом: «слышали?» и на ответь мой: нет — рассказал, что Пушкин умирает.
У него, у Пушкина, нашел я толпу в зале и в передней — страх ожидания пробегал шёпотом по бледным лицам. — Гг. Арендт и Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему — он подал мне руку, улыбнулся, и сказал: — «плохо, брат!» Я присел к одру смерти — и не отходил, до конца страстных суток. В первый раз Пушкин сказал мне «ты». Я отвечал ему также — и побратался с ним за сутки до смерти его, уже не для здешнего мира!
Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертию, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешение наше и на слова мои: Все мы надеемся, не отчаивайся и ты! отвечал: «Неть; мне здесь не житье; я умру, да видно уж так и надо!» В ночи на 29-е он повторял несколько раз подобное; спрашивал например: «который час» и на ответ мой продолжал отрывисто и с расстановкою: «долго ли мне так мучиться! Пожалуста поскорей!» Почти всю ночь продержал он меня за руку, почасту брал ложечку водицы или крупинку льда и всегда при этом управлялся своеручно: брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам сымал и накладывал себе на живот припарки, собственно от боли, страдал он, по словам его не столько, как от чрезмерной тоски, что приписать должно воспалению в брюшной полости а может быть еще более воспалению больших венозных жил. «Ах, какая тоска!» восклицал он иногда, закидывая руки на голову — «сердце изнывает!» Тогда просил он поднять его, поворотить на бок, или поправить подушку — и не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «ну, так, так — хорошо; вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо!» или: «постой, не надо, потяни меня только за руку — ну вот и хорошо, и прекрасно!» Вообще был он — по крайней мере в обращении со мною, повадлив и послушен, как ребенок, и делал всё, о чём я его просил. «Кто у жены моей?» спросил он между прочим. Я отвечал: много добрых людей принимают в тебе участие — зала и передняя полны, с утра до ночи. «Ну, спасибо — отвечал он — однако же, поди, скажи жене, что всё слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят!»
<...> Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, как утопленник, за соломенку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других — но ненадолго. П. заметил, что я был пободрее, взял меня за руку и спросил: «никого тут нет?» Никого, отвечал я. «Даль, скажи же мне правду, скоро ли я умру?» Мы за тебя надеемся, Пушкин, сказал я, право надеемся! Он пожал мне крепко руку и сказал: «ну, спасибо!» Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждой: ни прежде, ни после этого он не верил ей, спрашивал нетерпеливо: «скоро ли конец?» — и прибавлял еще: «пожалуста поскорее!» В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти — и не мог отбиться от трех слов, из Онегина, трех страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах и в голове моей:
Ну что ж? Убит!
О, сколько силы и значения в трех словах этих! ужас невольно обдавал меня с головы до ног — я сидел, не смея дохнуть — и думал: Вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни — здесь, где душа рвется из тела; то, что увидишь здесь, не найдешь ни в толстых книгах, ни на шатких кафедрах наших.
Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на слова мои «терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче» — отвечал отрывисто: «нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил; не хочу».
Пульс стал упадать приметно, и вскоре исчез вовсе. Руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 29-го февр. — и в Пушкине оставалось жизни — только на ¾ часа! П. раскрыл глаза, и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «позовите жену, пусть она меня покормит». Др. Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку, другую — и приникла лицом к челу отходящего мужа. П. погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего, слава Богу, всё хорошо!»
Вскоре подошел я к В. А. Жуковскому, кн. Вяземскому и гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Бодрый дух всё еще сохранял могущество свое — изредка только полудремотное забвенье на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше — ну — пойдем!» Опамятовавшись сказал он мне: «мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко — и голова закружилась». — Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и потянув ее сказал: «Ну, пойдем же, пожалуста, да вместе!»
Друзья и ближние, молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лице его прояснилось, и он сказал: «кончена жизнь». Я не дослышал и спросил тихо: «что кончено». «Жизнь кончена» — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит» — были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу — руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колена также — отрывистое, частое дыхание изменялось более и более на медленное, тихое, протяжное — еще один слабый, едва заметный вздох — и — пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого!.
В. Даль»*
И еще вот такая запись: «Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл — не знаю почему — талисманом; досталась от В. А. Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его, только чтобы положить в гроб. Это чёрный сюртук с небольшою, в ноготок, дырочкою против правого паха. Над этим можно призадуматься. Сюртук этот должно бы сберечь и для потомства; не знаю ещё, как это сделать; в частных руках он легко может затеряться, а у нас некуда отдать подобную вещь на всегдашнее сохранение [я подарил его М. П. Погодину]».
*Источник: ФЭБ; из сборника «Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Комис. для изд. соч. Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. — Пг., 1916. — Вып. 25/27. — С. 64—71». Дата создания: предположительно 28 января (9 февраля) 1837 и позднее, опубл.: 1916.