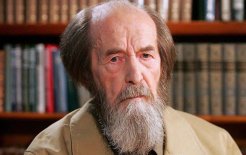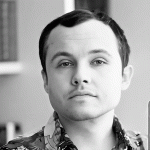
Текст: Борис Кутенков
В «Знамени» — главы из нового романа Сергея Шаргунова «Попович», посвящённого взрослению подростка в семье священника. «Лука знал, что писатель в наше время редко бывает богат или особо знаменит, но все равно литература почему-то манила волшебным мерцанием, быть может, отраженным церковным светом, и если мир церкви был хорошо знаком, писательский казался загадкой. Ему нравилось слово в цвете и тайне, нравилось подбирать и соединять слова.
Он любил и знал их сызмальства, редкие, странные, изощренные, может, оттого, что, едва научившись читать, уже бегло шпарил по-церковнославянски. («У меня дети растут в двуязычии», — хвастал папа.) Лука мечтал о том, как напишет настоящий рассказ, напечатается в журнале (Иван Антонович дарил «Октябрь» с рассказами), принесет в школу, а потом получится целый роман, выйдет книга, с его, Луки, именем на обложке, все будут им восхищаться, начнутся вечера, выступления перед читателями, а впереди, разумеется, ждала Нобелевская премия. При этом свои дикие ломаные стихи о любви Лука не показывал никому…»

Новые стихи Михаила Айзенберга:
- За год какие, гляди,
- ладные выросли.
- И ведь опять посреди
- серости, сырости.
- Вижу, встают под копьё
- целыми сотнями,
- чтоб вместе с ними моё
- сердце не отняли,
- чтобы укрыться могли
- в мелкой погрешности
- к новым покровам земли
- по принадлежности.
Неопубликованное ранее интервью Геннадия Евграфова с Давидом Самойловым. «А с автографом Анны Андреевны Ахматовой произошла вот какая история. Когда появилась ее небольшая книжка в “Библиотеке советской поэзии” — она вышла в зеленом переплете, — Ахматова была недовольна, зеленый переплет ей очень не нравился, и для нее сделали некоторое количество в черном. А про зеленый, помню, она сказала: “Фу, он как лягушка”. И вот такая черная книжечка есть у меня с ее автографом, и, что любопытно, она надписала мне: “В память московских встречъ”. “Встреч” с твердым знаком. А на следующее утро позвонила и сказала: “Там есть один лишний твердый знак, уничтожьте его”. Я понял, что это, видимо, произошло оттого, что она привыкла писать по старой орфографии с “ъ” в конце и по инерции так мне и написала. Но самое главное, что она это запомнила. Но я “лишний знак” не уничтожил, в этом виде у меня ее автограф и остался…»
«Горький» обозревает пять новинок для любителей детской книги. Из редакционного предисловия: «Из новинок ушедшего года мы решили отобрать именно те, которые будут интересны взрослым. Это довольно несхожие книги, но все они напоминают о том, каково быть маленьким в огромном мире: что чувствует ребенок, как воспринимает себя и взрослых, как реагирует на радости и кошмары повседневности». О книге Даниэлы Парески в переводе Михаила Визеля: «Даниэла Парески таким образом догоняет сразу двух зайцев: с одной стороны, учит ребенка видеть суть вещей, а с другой — напоминает взрослым о том, как именно смотрят дети. Ведь дети, наделенные не только зверским любопытством, но и ощущением бесконечности времени, не ленятся настраивать взгляд на цельную сущность супа, чтобы увидеть сразу все его составляющие в одном кадре: морковку и лук, готовку и соль». О книге Брехта Эвенса «Король-медуза»: «Беззащитность младенца показана Эвенсом с особой тщательностью, дело не только в крошечных размерах и физической слабости, но и в том, что мир для него — это хаос: многочисленные незнакомые звуки гремят какофонией, формы и цвета тоже превращаются во что-то неразборчивое…»

На страницах «НГ Ex Libris» — очередная глава из эссеистической книги Владимира Новикова «День рождения мысли».

«Не знаю, как другие, а я от себя как автора отнюдь не в восторге. На протяжении полувекового профессионального существования не раз плошал, грешил необязательным писаньем. По обстоятельствам, по случаю, по службе, по дружбе, по дурости… А остается — для тебя самого, не для кого-то там — только то, что написано по призванью. Это фактор нестабильный и непостоянный. В моей личной судьбе пресловутое призванье приключилось восемь раз». О Блоке: «Мне довелось общаться с тремя людьми, лично знавшими Блока. Один из них — Сергей Михайлович Бонди, который на лекции в той самой 233-й аудитории, в которую я потом буду много лет ходить на работу, рассказывает нам на лекции, как в 1913 году Блок позвал его вместе с братом, художником Юрием Бонди, к себе домой на читку пьесы “Роза и крест”. <…> После этого рассказа Сергея Михайловича я буквально улетел из Москвы в Питер 13-го года, влетел в форточку дома на Офицерской улице, где жил Блок и где сейчас его музей, словно намереваясь сказать: “Да нет же, Александр Александрович, я с вами поспорю! Смысл в том, что «сердцу закон непреложный — Радость — Страданье одно!” С этого момента у меня начинается настоящий роман с Блоком».

О решении написать ЖЗЛ о Пушкине после слов маленькой внучки: «И рассказываю вкратце о дуэли и смерти. — Какой ужас! — Клава говорит. — Не хотела бы я, чтобы с моим папой такое случилось. Голос профессиональной судьбы незамедлительно послышался: — Ну ты понял, о ком и для кого надо теперь небольшую и конкретную книжечку Пушкина написать? Чистый Пушкин, без всяких там концептов и выгибонов. А больше я тебя не побеспокою…»
«Бизнес Online» интервьюирует литературного критика, доктора филологических наук, профессора Казанского государственного университета Артёма Скворцова. О социокультурной фрагментации: «Крайне трудно и вообще едва ли возможно выделять события в культуре, которые были бы интересны абсолютно всем. Это касается любого искусства: и музыки, и театра, и кино, и литературы. В этом смысле показательна ситуация с Нобелевской премией по литературе. Раньше ее вручение было действительно мировым событием, которое так или иначе затрагивало всех интересующихся словесностью. В настоящее время это явление стало, мягко говоря, нишевым, локальным».
О ситуации в прозе: «Положа руку на сердце могу сказать, что за последние 30 с лишним лет прозаиков уровня Юрия Казакова, Юрия Трифонова или Фазиля Искандера у нас не появилось. Это авторы позднесоветских времен, которые уже стали литературными классиками. Притом что внешне сейчас с писателями у нас все в порядке: выходят книги, проводятся ярмарки и фестивали, присуждаются премии. Но такого уровня и такого качества письма, какое было у названных авторов, я как читатель и филолог почти не вижу…» Об Александре Проханове: «Он еще с позднесоветского времени занимает эксцентрическую позицию возмутителя спокойствия. Ему это, видимо, очень нравится, и он это умело делает. Мне кажется, мы имеем не столько литературное событие, сколько общественно-политическое…»

В «Лиterraтуре» Дарья Лебедева анализирует стихи Юрия Казарина: «Тексты, формально написанные прозой, на самом деле максимально поэтичны — они похожи то ли на сон, то ли на неясное видение и, наверное, каждый читатель увидит в этом сне что-то свое. В тексте “Конспект стихотворения” провозглашается буддистское «всё выходит из пустоты» и проглядывает неожиданная идея, что люди есть лишь тело языка, что язык — и есть ты, и тебя при этом нет. “Язык зряч”, “язык живет один — без речи и письма”, “и горлом хлещет песнь, плач, вой, хрип, бог” — всё это, по сути, манифест поэта, который пытается выразить невыразимое, высказать запредельное, выйти за границы человеческих возможностей».
В журнале «Волга» — большая публикация об Аркадии Штейнберге («Я работаю вовсе не для тех, кто не знает языка». Три вечера у Александра Кривомазова (1980-81 гг.). Запись вечеров — Александр Кривомазов. Расшифровка, комментарии, вступление — Владислав Резвый, Илья Симановский).

Штейнберг об искусстве перевода: «А что же делать? И вот, оказывается, то, что мы называем художественным переводом или переводом стихов, — это не перевод. Вы можете только создать образ оригинала, а не сам оригинал. Точно так же, как если вы пишете в стихах о закате, или о реке, или о лесе, или о любви, — вы только даете образ этих вещей, вы в слове не можете непосредственно восстановить явление природы. Только образ. А образ оригинала можно создать. То есть эту игрушку надо совершенно сломать, ее надо пережить внутри, и опять из себя сделать это. И если в оригинале поэт пишет о лесе, о реке, о небе, о горах, то, по существу, переводчик так называемый берет материал — вот этот лес, горы и так далее — уже из своей собственной… из того, что он сам видел. Конечно, я видел и лес, и горы, и всякие вещи, и небо, и закаты… И по существу это делаешь все своими словами».

«Всеализм» представляет эссе Михаила Бешимова о поэтической интонации. «…мы подходим к тому, что интонация может задаваться разными способами. Так, скажем, узнаваемая каждым, кто слышал авторское исполнение этих стихов, “захлёбывающаяся” интонация Гронаса, не оторвана от текстов, но задаётся в них — только не знаками пунктуации или графикой, как у Пузыно, но наоборот — их отсутствием. И чтобы услышать интонацию через отсутствие графических маркеров, читатель должен опустошить себя, отбросить речевую и метрическую предзаданность, чтобы монотонно “пробегать” от одного созвучия к другому, от вдоха к вдоху, не зная, где будет следующий. И это самое “пробегание” воссоздаёт авторскую интонацию…»

Елена Черникова, редактор отдела прозы «Текстуры», возвращается с колонкой «Багаж» и делится секретами мастерства. «Панибратские Машки, в том числе Маньки, стали редкостью. Возможно, до пишущего народа уже дошло, что любая Машка по паспорту — Мария, местами Мариам, то есть всё-таки не стоит уж так уж, а Юлька в мировых религиях не засвечена сильно, и её типа можно. Мне кажется, что многие учились на платных курсах, где им поведали о бесценной для всех-всех истории, протагонисте, арке, дальше вы знаете, а для красоты надо деталь, деталь, деталь, город и цвет локонов или лохм, и погода хмурая (с описанием лужи в бензиновых разводах), локация (рвотное словцо) и сеттинг (ну как иначе). Не вполне понимая лекторских забот о детали, студиозусы всё же верят оплаченным курсам и впихивают в одно предложение сразу весь облик Юльки_Серёги_Лёхи, словно торопясь отделаться от описания и скорее перейти к делу, то бишь повествованию…»
«несовременник» публикует цикл материалов, посвящённых Леониду Аронзону. Валерий Шубинский — о сонетах Аронзона: «…само обращение к закрытой сонетной форме у Аронзона связано с его отношением к поэтическому времени (стремлением к его сворачиванию и в идеале остановке) и зацикленностью на идее повторности. И то, и другое резко и радикально отличает его от Бродского.

Поэтому если у Бродского конец сонета всегда открыт, формула если и задается, то в начале (см. выше приведенный «Postscriptum»), то Аронзон почти всегда стремится замкнуть лирическое пространство». Пётр Казарновский (выпустивший книгу о поэте в «Новом литературном обозрении»): «…поэтический мир Аронзона — это некий замкнутый, изолированный мир. Он как будто не отличается от того мира, что снаружи; поэт, говоря о нем, характеризует его так: «Мой мир такой же, что и ваш <…> но только мир души». Но этот мир, несмотря на свою замкнутость, закрытость, даже ограниченность, в то же время и бесконечен, безграничен. Ведь это рай. И в этом следует видеть один из ключевых и противоречивых образов Аронзона».

Ксения Голубович: «Когда-то побывав на семинаре Федерико Феллини, советские режиссеры Наумов и Алов с удивлением передавали такой опыт. Феллини поставил перед ними одну из своих любимых киногероинь — огромную женщину-табачницу из Амаркорда — ее фигура — крутая, объемная, плотная, обтянутая одеждой — завораживала и пугала глаз. <…> Леонид Аронзон тоже выделяет нечто, что мы можем представить себе, как будто в каталоге любимых образов…»
Сергей Медведев в Prosodia рассказывает о поэте Александре Беленсоне (1890-1949): «Ключевая фраза стихотворения Беленсона — “И сам себе целитель каждый человек”. То есть спасение внутри человека, надо лишь увидеть свет. Вероятно, речь идет о вере. Можно сказать, что Беленсону удалось изыскать внутренние резервы и спастись от в пустоте небес кружащегося аэроплана. Но спасение оказалось временным… Поэт получил известность прежде всего как редактор и издатель альманаха «Стрелец» (вышло три номера: в 1915, 1916 и 1922 годах). На страницах «Стрельца» публиковались А. Блок, Ф. Сологуб, Д. Бурлюк, В. Каменский, А. Крученых, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников, В. Розанов, М. Кузмин, А. Ремизов, А. Ахматова».

В Poetica — стихи Егора Евсюкова:
- стою
- на самом краю бассейна
- в нём разноцветные шарики
- на каждом подпись
- фио и серия
- и отпечаток зрачка
- чего-то руки в карманах шарили
- искали имя нашли меня
- меня толкают
- лечу растерянный
- и превращаюсь в прозрачный шар