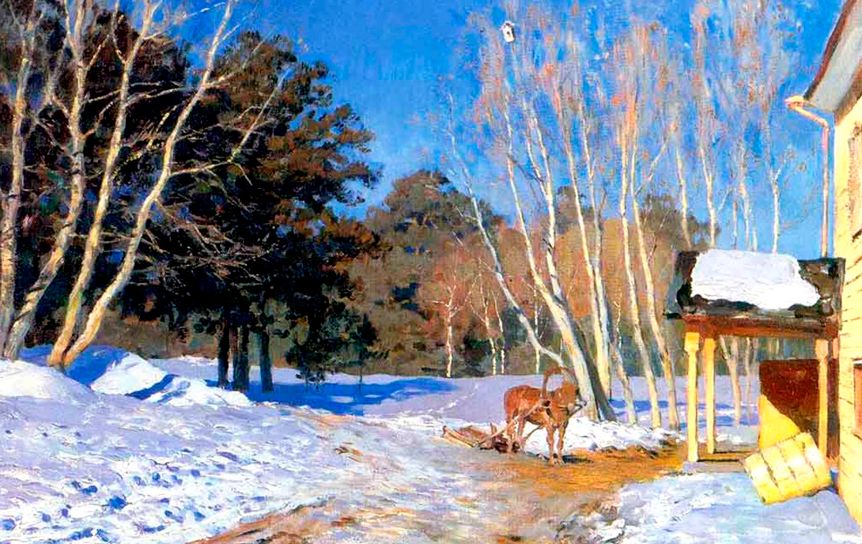ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Перед самым входом в сельскую церковь – лужа жидкой грязи, через которую перекинуто несколько досок. Досточек, как говорила бабка Марья. Бабку Комарова любила: когда та была жива, подолгу сидела с ней вечерами, слушала путаные рассказы о жизни при коммунистах – бабка была забывчива и часто по нескольку раз повторяла одно и то же, перевирая имена и даты, – а после того, как бабку похоронили, часто ее навещала. Могила тут же, на кладбище возле церкви: бабка Марья была коммунисткой и Бога не признавала – на могильном кресте намалевана красная звезда. И нашим, значит, и вашим. Поп, отец Сергий, особенно не возражал: Бог всех простит, и на кладбище – несколько таких могил с крестами и звездами, а есть и совсем без крестов – один столб торчит с прибитой деревянной или жестяной табличкой. Уже осень, но кладбище утопает в буйно разросшейся сныти и одуванчиках, и тут и там виднеются высокие, крепкие стебли осота. Заметив Комарову, равнодушная церковная кошка Васька, сидевшая на паперти, вздрогнула усами и широко зевнула.
Комарова шагнула на доски, присела на корточки и резко встала. Между досками выступила густая коричневая жижа.
– Ну, егоза! – сердито одернула Комарову выходившая из церкви высокая женщина. – Разведи тут еще болото! Грязи тебе мало!
Женщина прошла, едва не спихнув Комарову в лужу, но, тотчас и придержав ее за плечо, повернулась лицом к церкви и принялась не спеша креститься и отдавать поклоны. Губы ее беззвучно шевелились. Это была тетя Нина, или просто Нинка, известная на весь поселок тем, что поколачивала своего мужа, когда тот приходил домой выпивши. Многие женщины Нинку за это осуждали, но и втайне ей завидовали. Комаровой захотелось показать Нинке язык.
В церкви было сумрачно и приятно пахло, несколько прихожан молились, стоя с низко опущенными головами возле икон. Комаровой больше всех нравился Николай Чудотворец: отец Сергий говорил, что Николай покровительствует детям, и Комарова, как умела, молилась этому святому перед сном за двух своих братьев и четырех сестер, особенно за Ленку. За себя Комарова не молилась, так как давно считала себя взрослой. Возле иконы никого не было, и Комарова подошла, запрокинула голову и застыла, мысленно творя молитву.
– Опять без платка? – Отец Сергий смотрел строго, но без осуждения.
– Ну…
– Что, опять потеряла?
– Ну... потеряла…
– Что с тобой делать, раба Божия Екатерина?
Комарова шмыгнула носом. Белый шерстяной платок, подаренный на той неделе Сергиевой женой, попадьей Татьяной, она отдала Ленке, а Ленка потеряла. Позавчера Комарова отлупила ее за это хворостиной и теперь стеснялась – и того, что отдала подаренный платок, и хворостины.
– Ну... потеряла...
– Что ж ты…
– Так ведь за всем не уследишь, дел-то много. – Комарова покраснела.
Отец Сергий был человек еще относительно молодой для священника, ему не исполнилось и сорока пяти, но из-за полноты и какой-то преждевременной усталости казался старше. Своих детей у него не было. Татьяна из-за этого часто плакала и говорила, имея в виду комаровских родителей, что вот, а всяким алкоголикам Бог дал: Мишке этому бессовестному, который над родной матерью издевался как хотел, пока та не померла… целых семеро бегает по поселку, растут как трава в поле. Сергий утешал жену как мог, объясняя, что роптать грех, и что пути Господни неисповедимы, и всякое испытание дается от Бога; попадья как будто успокаивалась, всхлипывала и принималась прибираться или уходила на кухню.
– На вот... – Сергий запустил руку в глубокий карман подрясника, достал несколько «Коровок». – Не потеряешь?
Комарова хмыкнула, спрятала конфеты в карман платья, одну тут же развернула и сунула за щеку: «Коровка» оказалась свежей и растеклась во рту густой сладкой патокой.
– Помолиться пришла?
Комарова сделала вид, что конфета во рту мешает ей говорить. Отец Сергий вздохнул и поднял руку, чтобы перекрестить ее и вернуться к своим делам.
– Отче...
Слышно было, как тихонько потрескивают свечи и капает с них воск. Комарова иногда собирала этот растаявший и застывший каплями воск, грела в руках и скатывала в шарики.
– Я по делу пришла. С вопросом. Только вопрос нехороший. – Она запнулась и снова замолчала.
Сергий ждал, пальцы его правой руки так и остались сложены щепотью.
– Бог все простит.
Ленка шарики из воска складывала в коробку из-под чая, потом слепила из них человечка с руками и ногами, а вместо глаз вставила сгоревшие спичечные головки. Мать нашла человечка и выбросила. Ленка долго плакала.
– Я парня люблю.
Сергий нахмурился, подумал немного и сказал:
– Это не грех.
Ленка плакала, и мать надавала ей подзатыльников.
– Он меня старше.
Сергий помолчал еще. Татьяна вот тоже младше его на целых четырнадцать лет, и ничего, живут.
– Намного?
Комарова шмыгнула носом:
– Не знаю. Лет на шесть. Может, на восемь.
Татьяна иногда запиралась на кухне. Сергий на цыпочках подходил к двери и прислушивался: было очень тихо, только время от времени Татьяна вдруг делала глубокий вдох и то ли всхлипывала, то ли стонала. В дверную щель почти ничего нельзя было разглядеть: Татьяна, чтобы его не тревожить, не включала электрического света и зажигала только свечу. В поселке начинала лаять на запоздавшего прохожего собака, проезжала по далекому шоссе одинокая машина или громыхала фура с лесом. За печкой цвиркал сверчок. Жена вставала, наливала из чайника холодного кипятка, пила большими глотками. Сергий так же осторожно, как пришел, возвращался в комнату.
– Ты его разве больше, чем Бога, любишь?
Комарова подняла глаза, испуганно поморгала, помотала белобрысой головой.
– Нет, не больше.
– Тогда тоже не грех, – заключил отец Сергий.
Он трижды перекрестил ее, потом погладил по голове. Комарова снова опустила глаза, уставилась в пол. Не заплакала бы. Один Господь знает, что делать с человеческими слезами.
– Еще что-нибудь хочешь рассказать?
– Ничего.
Ленка, когда плачет, трясется всем телом, хватается руками за голову, сгребает пряди волос грязными пальцами. Так плачут только мелкие – взрослые, это Комарова точно знала, плачут беззвучно, даже и не понятно сразу, что плачут, просто слезы катятся по щекам, и всё. Мать всегда сердилась, когда кто-нибудь из мелких ревел, и била их молча, закусив нижнюю губу.
– Точно ничего?
– Сказала же.
Сергий хотел спросить: «А он-то тебя любит?», но смутился и мысленно одернул себя. Ребенок еще – откуда ей знать.
– Тогда иди с Богом.
Он еще раз рассеянно провел рукой по ее голове и неторопливо пошел прочь.
В церковь в основном ходили женщины. Женщин было много, но историй у них было от силы две-три: или полюбила кого-нибудь – это если молоденькая, или муж пьяница, гулена и бьет, или тяжело одной, без мужа, справляться с хозяйством – это если старуха. Бога им было мало, потому что Бог милостив, но молчалив, и нужен был священник и живое человеческое слово. Он в молодости хотел пойти на математико-механический и уехать в город, но отец настоял, чтобы сын пошел по духовной части. Сергий наклонился, поднял оброненную кем-то записку. В спине неприятно отозвалось. За здравие.
Комарова подождала, когда священник скроется в алтаре, подбежала к иконе и, оглядываясь, боясь, что кто-нибудь заметит, быстро собрала натекший со свечей, пахнувший медом воск, опустила в карман, выбежала из церкви и бежала до дороги и только там наконец остановилась и обернулась. Церковь стояла на пригорке и была очень старой, и красный кирпич ее стен потихоньку рассыпался в труху, и земля вокруг тоже была красноватой.
Бабка Марья рассказывала, что в тридцать седьмом большевики расстреляли здешнего батюшку – отца Алексия. Бабка была тогда маленькой девочкой, младше Ленки, наверное. Она говорила, что все видела: у церкви были заросли малины и дети бегали ее собирать. Отец Алексий был очень старый и совсем седой; когда его выводили из церкви, он несколько раз споткнулся, потом вообще упал, и его подняли, поставили на ноги и застрелили прямо перед церковью. Бабка из малины все видела. Комарова встречала отца Алексия: он появлялся поздно вечером, когда церковь была заперта, был весь в белом и хромал, потому что сначала ему выстрелили в ногу, а уже потом – в голову. Это бабка Комаровой рассказывала: тот, который стрелял, был еще совсем мальчик, а второй, старший, его потом ругал, что он не умеет обращаться с оружием. Влажные седые пряди Алексия липли ко лбу, и, когда Комарова его окликнула, он не обернулся. Когда она рассказала матери, та ударила ее наотмашь по лицу и сказала, чтобы не смела шляться по вечерам где попало.
Комарова сплюнула в пыль, сунула руку в карман, дотронулась до теплого комка воска. Деревья на кладбище покачивались от ветра и тихо поскрипывали, где-то долбил по стволу дятел. Она сощурилась, пытаясь разглядеть птицу в мельтешении листвы, но ничего не было видно. Потемневшее к вечеру небо заволокли тучи, и накрапывал дождь. Комарова поежилась, достала из кармана еще одну конфету, развернула, сунула в рот и побрела по дороге. Хотелось есть, но от конфеты во рту стало только приторно и противно.
Навстречу шла Светка со своим парнем Павликом. Светка была городская, но дачу не снимала, а жила тут у тетки и каждый раз задерживалась чуть не до середины сентября. Комарова прибавила шагу и, поравнявшись со Светкой, ухватила ее за подол, рывком задрала юбку, так что оголились загорелые, в царапинах Светкины ноги, а заодно и трусы с кружавчиками, и бросилась бежать. Светка завизжала. Отбежав на безопасное расстояние, Комарова обернулась. Павлик за ней не гнался: помогал Светке расправить подол.
– Кошка драная! – крикнула Комарова.
– Сама такая!
– Дура ты, Комарица! – поддержал Светку Павлик.
Комарова нагнулась, взяла с земли камень. Павлик попятился.
– Чего? В город за этой кобылой поедешь?
– Может, и поедет, а тебе что, завидно?
Комарова, не целясь, бросила камень – он упал на дорогу, подняв облачко белой пыли. Светка снова взвизгнула.
– Нужен он там кому, в твоем городе!
Светка хотела ответить, но поджала губы, схватила Павлика за руку и потянула прочь. Комарова пожала плечами и отвернулась. Дождь усиливался, и по спине поползли упавшие за шиворот прохладные капли. Первая осень, когда не нужно идти в школу, – семь классов Комарова с грехом пополам окончила, а в восьмой не пошла: и так дел по хозяйству невпроворот. Ленка вон вообще пятый бросила, не доходила, и никто ей слова не сказал, мать только рукой махнула, мол, дура – дура и есть. Без школы хорошо: никто не спрашивает домашних заданий и не вызывает к доске, и все-таки немного скучно и непонятно, что дальше. И еще Сергий этот – «не грех, не грех». Комарова слышала, как тетка Нина говорила Алевтине, что к его Татьяне ходит по ночам черт, и Алевтина поддакивала, мол, ходит-ходит, то через печную трубу, то в окно влазит, она сама видела, и хвост у черта был длинный и тонкий, как веревка, а на конце – кисточка вроде как у коровы. И все эта дура врет, ничего-то она не видела. Во-первых, те, к которым черт ходит, худые и грустные, потому что их сушит тоска, а Татьяна вон какая – румяная и веселая. Во-вторых, должны быть обязательно на шее синие отметины, потому что черт, когда приходит к женщине, ее душит – сначала так только, вроде играет, а потом возьмет и насмерть задушит. А у Татьяны никаких на шее отметин нет – белая шея и чистая, каждую неделю она, что ли, в бане моется. Комарова провела пальцами по влажным волосам, запрокинула голову, и крупные увесистые капли упали ей на лоб и щеки.
– Ка-ать! – Ленка выскочила откуда-то из придорожных кустов. Босая, конечно, ноги грязные, и встала прямо в лужу.
– Чего не обулась?! – крикнула Комарова.
– Ну а чё... тепло еще. – Ленка подошла ближе и утерла нос рукавом.
– Тепло, тепло, с носу потекло, – передразнила Комарова, сунула руку в карман и отдала Ленке пару «Коровок». Та сразу развернула и запихнула в рот обе.
– Чё, к бабке ходила?
– Не болтай с набитым ртом.
– Ну чё?
– К бабке.
– И чё бабка сказала?
– Сказала, всыпать тебе давно пора. Хворостиной по жопе.
– Позавчера уже всыпала.
– Мало, значит. Надо добавить.
Ленка отвернулась, насупилась, помолчала.
– Саня с утра зубами мается. Воет.
– Надо было к фельшерице отвести. – Комарова посмотрела на босые Ленкины ноги, до колен облепленные грязью. Тепло ей, как же... туфли она осенние бережет.
– Бати нет, а мать того...
– Понятно.
Бабка рассказывала, что до прихода советской власти в поселке жили такие колдуны, которые пошепчут над зубом там больным или чирьем, и все проходило, и не надо было ни к какой фельшерице. Фельшерица все равно ничего не сделает, только разве даст таблеток от боли и выпишет направление в город, а в город Саню никто не повезет. Это два часа на электричке, и там еще неизвестно сколько – город-то большой, а он уже третий день орет.
– Чего у него?
– Ну щеку раздуло, во... – Ленка приложила кулак к щеке. – Во! И орет.
– Понятное дело, что орет.
– Это Босой виноват, – вдруг сказала Ленка.
– Чего вдруг Босой-то?
– Он Саню на прошлой неделе в канаву толкнул, помнишь? Саня ему под велик сунулся.
– Ну помню. И что?
– Вот тебе и что! Вот у него и зуб теперь!
– Дура. Как из деревни…
– Сама ты дура, – надулась Ленка и поджала губы. – Сама ты из деревни…
Бабка говорила, теперь никто слов не знает, которые надо шептать над зубом, чтобы прошло, потому что колдуны свои заговоры партийным не передавали. Комарова пнула калитку, петли заскрипели, и Ленка хихикнула:
– Смазать бы, Кать...
– Чем я смажу? Соплями твоими?
Саня орал так, что было слышно на улице. В соседнем дворе залилась лаем овчарка, одуревшая от Саниного воя.
– Пачку соли давай разведи в миске.
– Целую?
– Ну…
– Мать узнает, крику будет…
– Иди давай.
Ленка побежала через двор; в сумерках казалось, что на ногах у нее темные гольфы. Комарова осторожно поднялась по ступеням крыльца, вошла в дом, тихо, на ощупь прошла по длинному, заваленному хламом коридору. Саня сидел в углу комнаты, прижавшись больной щекой к стене. Увидев Комарову, он примолк и громко шмыгнул носом. Рядом на полу сидела пара мелких. Комарова шуганула их, подошла к Сане, присела на корточки:
– Открывай рот давай.
Саня покорно открыл рот, Комарова сунула палец ему за щеку, оттянула. В комнату зашла Ленка, поставила на пол миску с соленой водой. На десне у Сани белел фуфел.
– Ну, иглу тащи и спички.
Вот если бы знать те слова, которые колдуны шептали. В поселке была еще при советской власти такая баба Нюра, которая могла не только зуб, а и перелом заговорить, так чтобы не болело и срасталось без всякого гипса. Деду когда ногу придавило бревном на лесопилке, баба Нюра ему каких-то листочков на ногу положила, потом хлебный мякиш в воде размяла, что-то над ним пошептала, пошептала – и на больное место ему. У деда быстро все зажило, даже в больницу не пришлось везти. Комарова его не помнила, он помер до ее рождения, а батя говорил, что он всю жизнь сильно хромал и был страшный матерщинник. Бабка потом бабу Нюру просила ей записать, что она там над хлебом-то шептала, но баба Нюра сказала, что, раз бабка партийная, она ей слова передавать не станет, и, как бабка ни упрашивала, – она ни в какую. Саня взвизгнул, шарахнулся в сторону, стукнулся головой об стенку и заскулил.
– Всё, больше болеть не будет, полощи теперь.
Ленка схватила с полу миску, ткнула Сане в лицо.
– Давай, Санечка, полощи. Больше болеть не будет. Ну… чё ты…
Саня отхлебнул немного из миски и стал полоскать рот.
Комарова вышла из комнаты, прихватив спичечный коробок. Кто-то из мелких проскочил мимо: не терпелось посмотреть на притихшего Саню. Она шагнула из духоты прихожей в прохладную сентябрьскую ночь, вскочила, подтянувшись на руках, на перила крыльца, вытащила из щели между досками припасенную с утра самокрутку, чиркнула спичкой и закурила. Дым тонкой струйкой потек в воздухе; на перила бесшумно, как тень, взлетела Дина и улеглась, подобрав под себя лапы и щуря желтые глаза. Комарова протянула к ней руку, но Дина предостерегающе заворчала.
– Ну и пошла ты, дура блохастая... – Комарова сбила с самокрутки пепел и сплюнула в траву. – Не очень-то и хотелось.
Из дома вышла Ленка, притворила за собой дверь, тоже забралась на перила и уселась, прижавшись спиной к столбу, поддерживавшему полусгнивший навес над крыльцом. Комарова пошарила в тайнике, вытащила еще одну самокрутку, отдала Ленке вместе со спичками.
– Ну, рассказывай... – Ленка затянулась. Когда она курила, то была похожа на отца: он так же зажимал зубами беломорину и глубоко затягивался, а потом вынимал папиросу изо рта двумя пальцами, выдыхал дым и сплевывал густую ржавую слюну. – Взяла тебя Олеся Иванна или чего? – Она поерзала на перилах и уставилась, не мигая, в глаза Комаровой. Белесые ресницы ее чуть подрагивали.
А Комарова совсем и забыла, что утром ходила устраиваться на работу. Осенью дни длинные, тягучие, и в один осенний влезает десяток летних.
– Морду бы умыла.
– Ну Ка-ать...
– Санитарная книжка нужна. – Комарова затянулась, вдохнула пахнувший малиной и черникой дым.
– Чего за книжка такая?
– Ну, такая... там всякое написано, вроде что ты… – Комарова задумалась. – …Не обманешь там покупателя, не всучишь ему чего не того...
– Да ну, Олеся Иванна сама вон всучает! Мужики на прошлой неделе паленой водкой потравились! Двоих на прошлой неделе увезли по «скорой»!
– Ну, может, она не знала, что водка паленая.
– Да как же, не знала она… Чего не знала-то?
– Ты-то откуда знаешь? – рассердилась Комарова на сестру: мелкая, а туда же…
– Бабка Женя тете Нине говорила.
– Ведьма эта бабка Женя.
– Ведьма, – согласилась Ленка. – Я сама видела, как она соседям чего-то в грядку пихала. Яйца тухлые и шерсть собачью.
– Да ты чего... – Комарова придвинулась к Ленке. Дина, недовольно фыркнув, спрыгнула вниз и пропала в сумерках. – Ты чего... откопала и в руки это все брала?
– Ну откопала...
– Да ты дура совсем! – Комарова размахнулась и ударила Ленку по уху, та покачнулась и покраснела как свекла. – Дура совсем!
Ленка надулась, уставилась в пол. Говоришь ей, говоришь, все как об стенку горох. Лезет куда не надо.
– Дура совсем, – повторила Комарова. – Выбросила хоть?
– Выбросила, – буркнула Ленка. – Через левое плечо поплевала и сказала так: откуда пришло, туда и иди.
Врет, конечно.
– Ну хоть так. Так, может, и не будет ничего. А то сама знаешь чего.
– А чего?
– Сама знаешь чего. Отстань.
– Ну и пожалуйста.
От самокрутки остался коротенький, едва тлеющий хвостик. Комарова растерла его о стену и отшвырнула щелчком. Когда Ленка болела корью, бабка Женя приходила, приносила еще теплое парное молоко в зеленом бидоне и тертую клюкву с сахаром, потом позвонила каким-то своим родственникам в город и приехала молодая, коротко стриженная, сердитая женщина, которая Ленку раздела догола, долго крутила, что-то в ней слушала, оставила какие-то таблетки и пластыри, и бабка Женя сама на Ленку эти пластыри лепила и заставляла есть таблетки вместе с тертой клюквой и запивать молоком.
– Может, и врешь ты все.
– Чего это я вру? – удивилась Ленка.
– Все ты врешь…
Олеся Иванна сказала, официально Комарову взять на работу не может, но помощница ей нужна. Платить, мол, будет по-честному и без санитарной книжки, но чтоб никому... Будет она по-честному, как же. Комарова вздохнула. Деньги были нужны – хоть какие, а больше ее в поселке никто не возьмет. В город бы поехать, там людей много, значит, и работы на всех хватает, только мелких с собой не потащишь, и эту вот... и еще...
– Ты чё задумалась, Кать?
– Да так, ничего.
– Влюбилась, что ли?
– Иди ты в жопу.
– Сама иди ты в жопу, – обиделась Ленка, бросила давно погасший хвостик самокрутки, спрыгнула с перил и ушла в дом, громко шлепая по доскам босыми ногами. Комарова догнала ее в комнате – у них с Ленкой, как у самых старших, была своя комната, маленькая и сырая, окнами в лес. Комаровский дом стоял на самой окраине поселка; бабка рассказывала, что когда-то в нем жила большая семья не то Кусковых, не то Кисловых – тоже на «ка», а когда пришла советская власть, что-то с этими Кусковыми или Кисловыми случилось – заболели, или что-то еще, или куда-то их зачем-то всех увезли. Ленка сидела за столом, низко опустив голову и почти касаясь носом расстеленной на столе клетчатой клеенки. Ноги ее не доставали до пола.
– Ленка...
Ленка вздрогнула, еще ниже опустила голову и поджала под стулом ноги.
– Я тебе вон чего... – Комарова достала из кармана большой ком воска и положила перед Ленкой. Та подняла голову, шмыгнула носом, потянулась к кому, отщипнула кусочек, раскатала между ладонями, положила на клеенку и слегка расплющила.
– Ну, так спички давай.
Комарова отдала Ленке коробок, та взяла две спички, воткнула в воск и подожгла. Комарова не дыша уставилась на два маленьких дрожащих огонька. Когда они доползли почти до самого воска, Ленка их задула. Одна спичка осталась стоять прямо, другая, сгорев, изогнулась дугой и отклонилась в сторону.
– Не, не судьба. – Ленка снова шмыгнула носом и утерлась кулаком.
– Давай еще раз.
Ленка пожала плечами, вынула сгоревшие спички из воска, провела пальцем по блестящей поверхности, замазывая дырочки, и поставила новые.
– Давай я теперь. – Комарова подожгла спички и стала смотреть на огоньки.
Обугливаясь, спички медленно отворачивались друг от друга и наклонялись в разные стороны.
– Да понятно уже! – не выдержала Ленка.
– Погоди...
– Да понятно ж!
– Да погоди ты!
Огоньки добрались до воска, он начал плавиться, запузырился и тихо зашипел.
Ленка задула спички:
– Прожжем скатерть, мать ругаться будет.
– Давай еще раз. Бог троицу любит. – Комарова вынула из воска сгоревшие спички, вставила новые, подожгла. Одна загорелась не сразу, и пришлось поджигать ее заново. Ленка не мешала, смотрела молча и только вздохнула, когда обе спички, сгорев, снова отвернулись друг от друга.
– Ну, значит, правда не судьба... – Комарова собрала со стола спички, отлепила воск от клеенки, помяла в руках, потом открыла окно и выбросила все в ночную темень. В лесу протяжно закричала какая-то птица, как будто заплакала.
Ленка обхватила себя за плечи и поежилась:
– Душа чья-то тоскует.
Комарова прислушалась, но птица больше не кричала. Лес тихо, спокойно шумел, как будто осень еще и не собиралась наступать, а была только середина августа, когда жара спадает, и стоит тихая, немного сонная погода, и некоторые дачники уже начинают вздыхать о возвращении в город… Теперь-то почти все уехали, кроме этой дуры Светки.
– Это выпь кричит. На болоте.
– Она, говорят, к несчастью...
Отец Сергий в свое время крестил и Комарову, и Ленку, и мелких. Мать говорила, никому это было не надо, но, когда пришел какой-то там срок, ранним утром к Комаровым заявилась Татьяна. Мать сама была из городских и крещение не признавала; по поводу Комаровой она даже пыталась с Татьяной поругаться, но та, обычно тихая, вдруг раскричалась, чуть не силой отняла ребенка и отнесла в церковь. Других детей мать отдала уже без боя, только презрительно хмыкала, когда являлась Татьяна, наряженная, как на праздник, и притаскивала с собой то ватрушку с творогом, то сладкую запеканку – отметить крестины. Комарова дотронулась пальцами до шнурка на шее, на котором висел крестик.
– Ленка... гадать-то – грех.
– Все гадают, и ничё. Эти даже, дуры, ну, сестры-то бесстыжие с той стороны реки... Мы ж не на картах.
– А они на картах?
– На картах. На то и бесстыжие. – Ленка подумала немного. – На картах гадают и голыми в реке купаются – сама видела.
Выпь в лесу снова заголосила и кричала долго, тоскливо, как женщина.
– Ка-ать, – тихо спросила Ленка, – а почему гадать – грех?
– Потому что это... на божий промысел не надеяться и совать нос не в свои дела. Гадают только цыгане.
– Да ладно... а бабка наша гадала.
– Не гадала бабка, не ври. Она коммунисткой была.
– А вот и гадала! – заспорила Ленка. – И на картах, и на блюдечке с голубой каемочкой, и по-всякому! По-всякому по-разному гадала!
– Да не гадала бабка, ну!
– А я говорю, гадала! Мне лучше знать!
– Это с чего это тебе лучше знать?!
– А с того!
– Да с чего с того?!
В дверь комнаты постучали:
– Чем вы там занимаетесь?! Орете на весь дом!
Ленка втянула голову в плечи и прошептала:
– Мать разбудили... сейчас будет...
– Это все ты…
– Да ладно, чё я-то?..
– Сейчас, мам! – крикнула Комарова. – Уже ложимся!
Мать за дверью молчала, но не уходила. Комарова почувствовала, как прохладные Ленкины пальцы сжали ее запястье.
– Уже ложимся, мам! – громко повторила Комарова.
Мать, хоть и была маленькая и худая, в чем душа держится, а рука у нее была тяжелая, и, начав бить, она останавливалась, только когда уставала. Из всех братьев и сестер Комарова единственная была на нее похожа, за что мать ненавидела ее особенно.
– Чтоб я вас больше не слышала. Если еще хоть раз услышу…
Послышался скрип половиц. Мать сделала несколько шагов, потом повторила устало: «Если еще хоть раз услышу…» – и ушла совсем. Ленка глубоко вздохнула и отпустила Катину руку:
– Вот ведь...
– Ложиться надо, правда, поздно уже.
Комарова, не раздеваясь, забралась в постель и накрылась тяжелым шерстяным одеялом; одеяло было куплено еще бабкой Марьей в незапамятные времена, когда она ездила в город и какую-то она за этим одеялом отстояла дикую очередь. Комарова подтянула край к подбородку и вдохнула запах: пахло чуть сыроватой шерстью. Ленка выключила свет и бесшумно выскользнула из комнаты. В сарай поперлась, в туалет. Комарова закрыла глаза. По-хорошему, надо бы ее проводить: в сарае темно и навалено всякого сора на полу, вчера кто-то из мелких наступил на гвоздь. И пауков там полно, поймают Ленку, замотают в паутину и искусают до смерти, так ей и надо. В детстве они пугали друг друга этими пауками. Комарова крепко зажмурила глаза, потом открыла: вокруг была кромешная темнота, только за окном эта темнота колыхалась, ворочалась и шумела – ели и сосны кутались в свою хвою, ожидая скорых холодов.
Ленка вернулась так же тихо, как ушла, влезла в кровать Комаровой, прижалась к ее плечу холодным носом.
– Куда ты в постель с грязными лапами...
– Засохнет и отвалится, – хихикнула Ленка.
– К себе иди.
Ленка не ответила, свернулась калачиком и прижалась еще теснее. Комарова прислушалась:
– Не спишь, что ли?
– Не сплю.
– Чего не спишь-то?
В темноте Ленка открыла глаза, посмотрела в окно, где раскачивалась громада леса:
– Ка-ать... а он какой?
– Какой надо.
– Ну Ка-ать... – Ленка ущипнула ее за руку.
Теперь ни за что не отвяжется и будет выпытывать. Входная дверь заскрипела, с шумом распахнулась, потом захлопнулась, по коридору прошли тяжелые шаги, остановились, батя несколько раз ударил в стену кулаком, что-то упало, покатилось, потом затихло.
– Приперся…
– Ну Ка-атя…
– Что ты пристала?
– Ну какой он? – повторила Ленка. – Хоть местный?
– Местный, – нехотя ответила Комарова.
– А красивый?
– Отстань.
– Ну!
– Отстань, кому сказала...
Ленка вздохнула, перевернулась на другой бок и помолчала немного.
– Я выйду только за городского.
– Чтобы в город уехать?.. Нужна ты там.
Комарова закусила губу. В городе у них есть тетка – материна старшая сестра. Когда мать переехала в поселок и вышла за отца, тетка перестала с ней разговаривать. Мать много о ней рассказывала, какая, мол, тетка молодец, работает главным бухгалтером в магазине и поставила на ноги двоих детей, а она вот ошиблась один раз – и вся жизнь под откос. Потом тетка вдруг приехала, привезла мешок карамелек в ярких разноцветных обертках и поругалась с матерью: они стояли во дворе – мать в вылинявшем домашнем халате, тетка в новеньком костюме – и пытались друг друга перекричать. Тетка поймала за шиворот пробегавшую мимо Ленку, стала показывать ее матери, как будто та Ленку в первый раз видела, Ленка вывернулась и больно укусила тетку за пухлую руку.
– Нужна ты там очень, в городе...
Ленка не ответила. Бабка говорила, что человеческий укус хуже собачьего – долго болит и плохо заживает – и что надо его прижигать водкой и прикладывать чистый лист подорожника. Больше тетка не приезжала, а мать, когда была трезвая, жалела, что они тогда поругались, и все говорила, что поедет в город мириться, а когда напивалась, крыла тетку последними словами. Они с Ленкой хранили несколько разноцветных оберток от тех карамелек, на них английскими буквами было написано Bon Pari, и от них еще долго пахло яблоком, клубникой и какими-то незнакомыми вкусными вещами. Комарова закрыла глаза и не заметила, как уснула. Приснился Саня: он сидел в углу большой комнаты, держался обеими руками за щеку и раскачивался из стороны в сторону. Бабка сидела подле, гладила его по волосам сухой старческой ладонью. Ее губы беззвучно шевелились: все слова забыла, Санечка, а раньше были такие люди, которые знали всякие нужные слова, не плачь, отвезем тебя в город, к доктору, он тебя вылечит. Саня не слушал, продолжал раскачиваться и жалобно подвывал. Потом приснилась Ленка в красивом платье, с причесанными и заплетенными в косу волосами, а ноги у нее были босые и грязные. Комарова засмеялась, глядя на ее ноги, от смеха проснулась и долго лежала, вглядываясь в темноту. Кому эта дура нужна в городе, у нее даже приличных трусов нет. Взять, к примеру, Светку, вон как за ней этот дурень Павлик увивается, и что он только в ней нашел… За стенкой ругались мать с отцом: мать упрекала отца за то, что когда-то в него влюбилась и вышла замуж, отец отвечал на всё одним словом и ударял кулаком по столу. Комарова закрыла глаза и уснула крепким сном.
2
Все утро Комарова таскала коробки с печеньем и расставляла их на полках. В поселке было несколько магазинов и даже один, называвшийся универмагом, где продавали все то же самое, только дороже. Городские, выкатывавшиеся из электричек, сразу бежали в универмаг, потому что думали, что там все более свежее и вообще почти такое же, как в городе. В магазине всегда пахло подплесневевшим хлебом и песочным печеньем и немного – розовыми духами Олеси Иванны. Сама Олеся Иванна сидела за прилавком на деревянном стуле, под одну из ножек была подложена картонка, чтобы не шатался. Комарова притащила последнюю коробку и поставила на полку. Олеся Иванна оглядела ее с головы до ног, вздохнула:
– Лохудра ты, Катька.
Олесе Иванне было около тридцати пяти, она была полная, черноволосая, выглядела немного старше своих лет, ярко красилась и казалась Комаровой очень красивой. Прошлым летом Комарова видела, как Петр, водитель «газели», дважды в неделю подвозивший продукты, обнимал Олесю Иванну за магазином. Он грубо и неловко прижимал ее к бетонной стене и тыкался лицом в глубокий вырез ее кофты. Она смеялась и отталкивала рукой его лохматую голову, повторяя: «Ну что ты, Петя, что ты, что ты...», потом вдруг сгребла пальцами вихры на его затылке и сильным движением прижала его голову к своей груди.
– Ела сегодня?
Комарова отрицательно мотнула головой. Когда она собиралась, все еще спали, и она тихо оделась и на цыпочках вышла из дома. Дина лежала поперек крыльца, чтобы не переступать через нее и не накликать беду, Комарова попыталась подвинуть ее ногой, но Дина, проснувшись, зашипела и чуть не вцепилась ей в щиколотку. В конуре зазвенел цепью и пару раз тявкнул Лорд. Плюнув, Комарова перепрыгнула Дину и побежала через двор. В воздухе висел туман, и мокрая трава неприятно холодила ноги.
– Что, не ела?
Комарова пожала плечами. Платье было ей велико, длинные рукава подвернуты и заколоты булавками. Когда Комарова вспрыгивала на табурет, чтобы дотянуться до верхней полки, и приподнимала свободной рукой подол, становились видны разбитые колени, покрытые запекшейся корочкой.
– Что так?
– Не хотела, – хмуро ответила Комарова.
– На складе греча с тушенкой, иди поешь, все равно пока никого нет.
Складом называлась небольшая комната, занятая ящиками со спиртным и консервами. К стене напротив двери был прижат узкий диван с вытертой обивкой, а в углу помещалась «кухня»: маленький прямоугольный стол, накрытый клеенчатой скатертью в синюю и желтую клеточку, два табурета, рукомойник и полка с посудой. В теплое время Олеся Иванна ставила на середину стола маленькую хрустальную вазу с какими-нибудь цветами, которые набирала по дороге на работу, и теперь из вазы торчало несколько крупных подвядших ромашек. Кастрюля с гречневой кашей, укутанная полотенцем, стояла на одном из табуретов. Комарова переставила ее на стол, осторожно размотала полотенце, приподняла крышку и вдохнула густой теплый пар, потом взяла с полки тарелку, нагребла себе несколько ложек, так же аккуратно укутала кастрюлю и села есть. Каша была не очень вкусной: Олеся Иванна не выбрасывала из тушенки жир – жалела, но Комарова готова была съесть теперь что угодно – со вчерашнего вечера во рту ничего не было, кроме пары конфет. Мать когда-то готовила такую же кашу, тщательно отделяя жир и оставляя только распадавшееся на тонкие розовые волокна солоноватое мясо. Жир из тушенки доставался Лорду: едва почуяв запах, он вылезал из конуры, приседал, запрокидывал голову и тихонько поскуливал, а когда мать выходила на крыльцо и бросала ему желтоватые комки, он подпрыгивал и ловил их раскрытой пастью, смешно клацая зубами, а потом облизывался до самого вечера.
– Сахарного песку полкило.
Комарова положила ложку, спрыгнула с табурета и выглянула в магазин. Перед прилавком стояла, опираясь на палку, бабка Женя.
– Пряников не хотите взять, тетя Женя? – заискивающе спросила Олеся Иванна.
Бабка Женя с сомнением покосилась на пряники:
– А они у тебя мягкие?
– Сегодня только привезли, – не моргнув глазом соврала Олеся Иванна. (Пряники привезли дай бог в начале прошлой недели.)
Бабка Женя раздумывала, мелко постукивая палкой по полу. Голова ее чуть тряслась.
– Слышала, Николая Иваныча-то сын?..
– А что?
Олеся Иванна привстала со стула, облокотилась на прилавок, подперев подбородок ладонями. Комаровой и Ленке сын Николая Иваныча Алексей когда-то слепил из красной оредежской глины пару свистулек.
– Нашел себе кого-то в городе.
Олеся Иванна удивленно охнула:
– А Алевтина как же?
– Да уж, наверное, как все...
– Это кто ж на него на такого позарился?
Алексей правда был долговязым, нескладным и с глазами навыкате – на него и в поселке мало кто смотрел.
– Да уж кто-то, значит, позарился...
– И давно это он?
– Да уже недели на три задержался… может, и больше.
– Так может, он так просто?
– Уж конечно, «так просто»! – Бабка Женя усмехнулась. – Ты-то будто не знаешь, как оно бывает – «так просто»!
Олеся Иванна смутилась:
– Да по-всякому бывает, тетя Женя. Три недели – немного.
Бабка Женя помолчала, задумчиво пожевала губами.
– Пряников-то возьмете? – напомнила Олеся Иванна.
– Пряников не нужно. Сахарного песку полкило.
Вот ведь вредная бабка.
– А кто это у тебя тут?
Комарова сделала шаг вперед.
Бабка Женя оглядела Комарову, как будто видела в первый раз. Глаза у нее были по-старчески голубые, но ясные. Когда была жива бабка Марья, они с бабкой Женей дружили, хотя бабка Женя никогда не состояла в партии и была страшная сплетница, чего комаровская бабка, не в пример другим в поселке, не любила и часто попрекала «Женьку» тем, что у той язык как помело, а бабка Женя на это смеялась, и вокруг глаз у нее собирались гусиные лапки морщинок. Говорили, в молодости она была в поселке первой красавицей и за ней увивалась целая куча парней, но она выбрала какого-то приезжего, он с ней покрутился, покуролесил два лета и бросил, а она после этого как-то быстро состарилась и подурнела.
– Не обижает тебя эта стервоза?
Комарова хотела ответить, но прыснула со смеху и зажала рот ладонью.
– Тетя Женя, ну как вам не стыдно...
– Ой, посмотрите на нее, люди добрые, обиделась! Что, скажешь, не стервоза?
– Да ну вас, тетя Женя…
– Не обижает, – выговорила наконец Комарова.
Однажды батя уволок бабку в сарай, запер дверь изнутри и долго бил, и слышны были крики и как что-то падало и гремело железом. Потом стало тихо, и бабка вышла из сарая, подозвала Комарову, провела рукой по своей голове, собрала пригоршню седых волос, склеенных уже начавшей спекаться кровью, скатала их между ладонями, протянула Комаровой и сказала отнести «Женьке». Бабка Женя, увидев волосы, охнула, накинула на плечи кофту и побежала в домашних тапках на улицу.
– Ну, не смотри ты на меня, как Ленин на буржуазию, дай еще печенья грамм двести.
– Лучше пряников возьмите.
Бабка Женя снова задумалась, постучала палкой по полу:
– Печенья грамм двести. Вот того, которое с желейной серединкой.
Олеся Иванна взглянула на Комарову:
– Ну, что встала, помощница?
Комарова схватила пластмассовый совок, насыпала в протянутый бабкой Женей мятый полиэтиленовый пакетик печенья, отдала Олесе Иванне, та поставила пакетик на весы и долго ждала, пока остановится дрожащая стрелка. Когда стрелка остановилась, она постучала по стеклу весов ногтями, стрелка дернулась еще несколько раз и наконец встала окончательно.
– Двести тридцать, брать будете?
Бабка Женя кивнула, вытащила из большой сумки кошелек и медленно отсчитала деньги без сдачи. Потом забрала свой пакетик, вытащила пару кругляшков и протянула Комаровой:
– Как там Марья-то?
– Лежит, чего ей...
– Навещаешь ее?
– Вчера была.
Бабка Женя вздохнула:
– А меня все никак Господь не приберет.
Черт тебя никак не приберет, сволочь старая. Печенья ей подай с желейной серединкой!
– Что вы такое говорите, тетя Женя!
Бабка Женя в ответ только покачала головой, тяжело вздохнула, взяла с прилавка выставленные Олесей Иванной полкило сахара и поползла к двери. Комарова откусила печенье – сладковатое песочное тесто как будто растворилось во рту. Бабка Женя, как все старики, эти печенья размачивает в чае, и чай становится густым и мутным от крошек. Какая ей разница: пряники, печенье... взяла бы правда пряников.
– О чем задумалась, помощница?
– Да так… – Комарова пожала плечами. – Ни о чем, просто.
Олеся Иванна смотрела на нее и усмехалась. Она всегда так усмехалась, и, когда говорила, казалось, будто она усмехается, всегда у нее уголки рта ползли вверх, и мужчинам это нравилось, особенно Петру.
– Не влюбилась ты?
– Вот еще. – Комарова нахмурилась, откусила еще печенья, провела ладонью по прилавку, смахивая крошки.
– А пора бы.
– Вот еще, – упрямо повторила Комарова.
– Что, и не целовалась ни с кем?
Вот пристала. Ей-то какая разница?!
– Неужто не целовалась?
По прилавку вяло ползала муха, уже искавшая, где бы уснуть на зиму. Комарова бессмысленно уставилась на нее. Муха нашла какую-то крошку, обхватила передними лапками и тщательно облизывала.
– Я в твоем возрасте уже вовсю с парнями гуляла. Матери, что ли, боишься?
Шугануть ее или пусть так сидит? Мать Олесю Иванну не любила и никогда ничего у нее не покупала, ходила в магазин на другой конец поселка или на станцию.
Когда Комарова с Ленкой раздобыли в ларьке у станции просроченную губную помаду и намазались, мать схватила их обеих за волосы, потащила к рукомойнику и долго терла им лица куском хозяйственного мыла – мыльная вода щипала им глаза, они вырывались, но мать держала крепко, повторяя: «будете знать у меня, будете знать», а потом схватила с полу тряпку и вытерла Комаровой этой тряпкой лицо; Ленка, пока мать наклонялась за тряпкой, вывернулась и удрала на улицу.
Комарова махнула рукой – муха бросила крошку, покружила над прилавком и снова куда-то села.
– Не боюсь.
– Я своей боялась, она у меня строгая была, – усмехнулась Олеся Иванна. – Драла нас с братом почем зря. Один раз со злости кипятком ошпарила. – Она приподняла подол длинной юбки: на белой ноге под капроновым чулком виднелось большое красное пятно. – Вот как. До сих пор не зажило.
– Это она вас за что?
– А не помню, – снова усмехнулась Олеся Иванна. – Может, и за это самое, а может, за что-то другое. Теперь-то уже не спросишь.
Хорошо мухе: забьется в какую-нибудь щелочку и уснет до весны. Дверь скрипнула, приоткрылась, и в магазин просунулась белобрысая Ленкина голова. Увидев сестру, Ленка улыбнулась и шмыгнула носом.
– А это я так, просто. Здрасьте, Олесь Иванна.
– Заходи, что ты там встала?
Ленка открыла дверь настежь и зашла. Помещение наполнилось желтоватым солнечным светом и запахом сохнущего на полях сена. Все-таки мало ей было хворостины, шляется без дела – нет чтобы с мелкими посидеть или в доме прибраться.
– Ну, чё тут как?
– Как-то так, – буркнула Комарова.
– А ты тут как? – поинтересовалась Ленка, как будто не видела сестру по крайней мере несколько дней. Значит, проснулась ни свет ни заря и лежала мордой в подушку, притворялась – ждала, когда Комарова уйдет, чтобы увязаться следом.
– Да вот так, – припечатала Комарова. – Покупать чего-нибудь будете?
Ленка нерешительно подошла к прилавку, запустила руку в карман, достала пригоршню мелочи и высыпала в блюдечко возле кассы:
– Жувачку.
Комарова уставилась на тускло поблескивающие монеты:
– Это у тебя откуда?
– Батя дал, – быстро ответила Ленка и опустила глаза.
Олеся Иванна усмехнулась.
Комарова потрогала монеты пальцем. Они тихо звякнули друг об друга. Один рубль пятьдесят копеек.
– Врешь.
– И совсем я не вру. – Ленка глянула на Олесю Иванну, как будто ждала, что та подтвердит, что батя дал ей мелочи на жвачку. Но Олеся Иванна молчала. – Ну продай жувачку, Ка-ать... – заканючила Ленка. – Тебе чё, жалко, что ли?
– Жалко. Ты где их сперла?
– И совсем я не сперла, – почти прошептала Ленка и еще ниже опустила глаза.
Сейчас разревется. Комарова опять потрогала монеты и тоже посмотрела на Олесю Иванну. Один рубль пятьдесят копеек – батя, может, и не заметит. А может, и заметит. И ведь немного совсем. Вспомнилось красное пятно на ноге у Олеси Иванны. Комарова посмотрела на Ленкины ноги – сегодня хоть обулась. Она отодвинула блюдце к краю прилавка.
– Олесь Иванна... из моей зарплаты вычтите.
– Да ну тебя, Катя, что там вычитать?
– Вычтите, – повторила Комарова и поглядела на Ленку.
Та сделала вид, что не заметила.
Олеся Иванна пожала плечами и наклонилась над картонной коробкой с жевательными резинками.
– Тебе какую?
– «Лав из»! – нетерпеливо пискнула Ленка. – Синенькую!
Олеся Иванна выбрала из россыпи синенький кубик и протянула Ленке. Та тут же его развернула, сунула в рот и стала разглядывать вкладыш. У нее в шкафу на верхней полке целая коллекция этих бумажек. Комарова как-то раз полезла на эту полку и рассыпала их – Ленка ползала потом по всей комнате на коленях, ныла, что какой-то из вкладышей потерялся, и потом два дня с Комаровой не разговаривала.
– Любовь – это... Ну во-от... у меня такой уже есть.
– Деньги забери.
Ленка послушно сгребла мелочь в карман.
– И положи туда, откуда взяла.
– Ла-адно...
– Ты меня поняла?
– Да положу, положу я, чё… делов-то…
Ленка шмыгнула носом и снова бросила взгляд на Олесю Иванну. Вернет – не вернет? А если батя заметит, то всыплет ей, и Ленка побежит прятаться от него в сарае или в огороде, который одно название: заросли одичавшей смородины и малины, туда и сунуться страшно. Ленка говорит, что видела там змею, хотя, наверное, врет. Далеко на станции загудел и загрохотал товарный поезд, ветер качнул неплотно прикрытую дверь, она заскрипела, потом открылась широко, и в магазин вошла Татьяна, впустив в помещение новую порцию солнечных лучей. Увидев Комарову и Ленку, она улыбнулась, но Комаровой тут же вспомнился потерянный Ленкой платок, и она насупилась, отвернулась и сделала вид, будто читает этикетки на товарах. «Хлеб дарницкий», «хлеб ржаной», «мука», «макароны», «молоко сухое», «молоко сгущенное». Ленка как ни в чем не бывало подскочила к Татьяне:
– Здрасьте, теть Тань!
Татьяна наклонилась и провела ладонью по немытой Ленкиной голове:
– Здравствуй, раба Божия Елена.
Олеся натянуто улыбнулась:
– Привет, Танечка!
Опять за сгущенкой пришла. Чай они пьют со сгущенкой, не могут с сахаром, как все нормальные люди. Сергий двенадцать лет назад привез Татьяну из Заполья; это Заполье было совсем глухой деревенькой, со всех сторон зажатой лесом; поезд там останавливался раз в сутки. Церкви в Заполье не было, и, когда понадобился священник, вызвали тогда еще совсем молодого Сергия, у которого едва пробивались над верхней губой русые усики. Татьяна была вся беленькая, чистенькая, и с того времени, кажется, почти не изменилась, только раздалась немного вширь. Олеся Иванна скривила губы. Небось тоже до свадьбы ни-ни. За сгущенкой она пришла.
– Две банки сгущенки, будь добра, Олеся Ивановна. И конфеток каких-нибудь.
Конфеток ей еще. Вырядилась, как на праздник. Она вроде поет в церкви – говорят, красиво. Олеся Иванна ни разу не слышала.
– Каких тебе, Таня?
– А какие получше... – Татьяна заметила спрятавшуюся в угол Комарову. – Ты, Катя, какие конфеты любишь?
– Не знаю. «Коровки», – пробормотала Комарова.
– Вот, «Коровок» грамм триста...
– А я жувачки! «Лав из»! – встряла Ленка.
– И парочку «Лав из»... – задумчиво повторила Татьяна.
– Ну, Ленка... – сквозь зубы прошипела Комарова.
Ленка посмотрела на нее и похлопала белесыми ресницами.
– И чаю крупнолистового... – добавила Татьяна.
– Сколько тебе упаковок?
– Одну… нет, давай лучше две.
Вот интересно: она бесплодная или ее Сергей? Нинка говорила, она с чертом спит, оттого и нет детей. Ну куда этой – с чертом? Олеся Иванна поправила упавший на лоб тугой темный локон. Татьяна порылась в сумке, достала список покупок, пробежала глазами.
– Пачку муки, яиц десяток – только если наши, оредежские...
– Наши, наши, – кивнула Олеся Иванна. – Сегодня привезли.
Комарова поморщилась. Никаких яиц сегодня не привозили. Водки Петр привез два ящика и несколько коробок печенья и сразу же уехал в Суйду; Олеся Иванна стояла, прислонясь к задней двери магазина, глядела на Петра, разгружавшего машину, и задумчиво перебирала оборки кофты.
– Ой, печенья же еще! – спохватилась Татьяна. – К нам мама из Заполья приедет.
– Возьми лучше пряников, Таня. Пряники хорошие.
– Мама печенье любит, – покачала головой Татьяна, – которое с желейной серединкой. Насыпь грамм триста, Олеся Ивановна...
Олеся Иванна ткнула в руку Комаровой пластмассовый совок, и та нагребла в пакетик печенья, стараясь, чтобы попали только целые печенины с круглой красной серединкой. Ленка, получив от Татьяны два кубика «Лав из» и пискнув «спасибо, теть Тань», уже незаметно удрала.
– Как там, в Заполье-то? – неожиданно для самой себя спросила Олеся Иванна.
– Да как... скучно, – пожала плечами Татьяна.
– У нас, что ли, веселее? Ты же целый день дома сидишь...
– У вас веселее, – улыбнулась Татьяна. – У нас там и речки нету, один лес вокруг.
– Да уж, у нас река так река, – согласилась Олеся Иванна. – Коварная только. Каждое лето кто-нибудь тонет. Когда не местные-то… не зная броду, не суйся в воду. Раньше говорили, в ней русалки водятся.
– Русалки? – удивилась Татьяна.
– Ну, утопленницы.
Татьяна чуть побледнела:
– Да я и не купаюсь. Так только…
Олеся Иванна собрала Татьянины покупки в большой пакет, выставила на прилавок.
– Вот. Что-нибудь еще?
Все-таки жалко ее. Если бы дети – она бы с ними возилась целыми днями, сидела бы как наседка с цыплятами. Баба крепкая, ей бы рожать и рожать, а она сидит дома, вышивает. И на сторону сходить не посоветуешь – обидится.
За дверью тренькнул велосипедный звонок, раздался громкий смех. Комарова прислушалась. Нет, не Максим. Сердце вдруг застучало и полезло куда-то вверх, и она отвернулась, испугавшись, что Олеся Иванна или Татьяна что-нибудь заметят. Звонок снова тренькнул – к магазину подъехал кто-то еще. «Два гола им забили», – произнес знакомый голос, и снова засмеялись. Значит, вчера играли в футбол с семринскими и выиграли. Максим такими глупостями не занимается, это все Антон Босой и его дружки. Бабка Марья звала их лоботрясами и говорила, из таких никогда не вырастет ничего путного: раньше партия знала, что с такими делать, а теперь партии нет и никто не знает. Дверь распахнулась, в магазин сунулась конопатая физиономия с зажатой в зубах беломориной.
– Здрассь, Олесь Иванна!
– С папиросой нельзя, Тоша, докури на улице.
Антон ловко перекатил беломорину из одного угла рта в другой, нагло глянул в вырез кофты Олеси Иванны.
– Щас сделаем.
«Уехали, как обосранные», – послышалось из-за двери. Татьяна вздрогнула, полезла в сумку за деньгами. Это они нарочно, чтобы она слышала. Дверь снова открылась, зашел Антон и с ним двое: один был Стас, который жил очень далеко, на другом конце поселка, где-то возле биостанции, а второго Комарова не знала – он, наверное, был из Семрино. Губа у него была сильно разбита, и в углу рта черным запеклась кровь.
– Пачку «Беломора». – Антон вытащил из кармана две смятые трехрублевые бумажки, бросил на блюдечко, подмигнул Татьяне.
– Давно не виделись, тетя Таня.
Татьяна, потупившись, отсчитала деньги, положила на прилавок, взяла свой пакет.
– Так ведь ты в церковь не ходишь.
– В церковь же с папиросой нельзя.
Стас и незнакомый парень засмеялись. Татьяна залилась краской.
– Сумка-то у вас тяжелая? Помочь донести?
– Совсем не тяжелая. – Татьяна смущенно улыбнулась. – Спасибо, Антоша, я как-нибудь сама.
– Стас, помоги тете Тане.
Стас шагнул к Татьяне, забрал у нее пакет, она обернулась к Олесе Иванне и Комаровой, попрощалась и вышла в распахнутую Стасом дверь – он был такой высокий, что едва не задевал головой притолоку, и потому сильно сутулился, а в футбольной команде был вратарем и стоял в воротах почти неподвижно, широко расставив длинные ноги, раскинув руки и по-бычьи наклонив голову.
– Какой ты у нас джентльмен, смотри-ка. – Олеся Иванна протянула Антону пачку «Беломора».
– Красивая баба Татьяна. Только дура.
Олеся Иванна ухмыльнулась. Антон вдруг перегнулся через прилавок, ухватил ее за плечи, притянул к себе и поцеловал прямо в губы. Семринский парень криво улыбнулся разбитым ртом.
– А вы, Олеся Иванна, и красивая, и умная.
– Зато ты дурак. – Олеся Иванна махнула рукой, едва не задев Антона по лицу. – Вот подожди, Петя вернется...
– Испугали ежа голой ж****. – Он отпустил ее, вытер рот тыльной стороной ладони, обернулся на Комарову. – Чего, Комарица?
– Ничего. Шел бы ты...
– А, вот ты, значит, как... – Антон лыбился, и видно было, что с левой стороны у него недостает двух передних зубов: одного совсем нет, а от другого торчит маленький треугольный осколок.
– Это вы в нашем штабе колючей проволоки набросали?
Комарова только теперь заметила на руках у Антона несколько длинных царапин – тонких, с рваными краями. Штаб у него и его гоп-компании был под железнодорожным мостом – отсюда километра три, быстро не сбегаешь.
Комарова отрицательно мотнула головой:
– Очень надо.
– Не ври, мелкая. Кроме вас некому. – Антон уже не улыбался, и глаза его, водянистые, с россыпью темных крапинок вокруг зрачков, смотрели зло.
– Тоша, отстань от девочки, – вступилась Олеся Иванна.
Антон дернул плечом, будто сгоняя муху, наклонился, уперся ладонями в прилавок:
– Кто тогда, если не вы?
Комарова опустила глаза и пробормотала себе под нос:
– Я тебе не мелкая, говна кусок.
Антон вздрогнул, сжал кулаки так, что костяшки пальцев стали белыми. Отец его тоже бьет, таскает за кудрявые, цвета лежалой соломы волосы. Антон кусает губы в кровь, но молчит. Он и когда дерется тоже молчит.
– Каринка с Дашкой вас у станции видели у моста. У моста вы что делали?
– Врут они всё. Слушай больше.
Антон ухмыльнулся:
– Врут, значит?
– Врут, – уверенно повторила Комарова.
– Значит, врут? А это вот что такое? – Антон запустил руку за пазуху, вытащил белый шерстяной платок, бросил на прилавок. – Ну?
Комарова уставилась на платок. Во рту было сухо, и казалось, что язык покрылся паутиной и прилип к нёбу. Мало Комарова молилась Николаю Чудотворцу и мало лупила Ленку по голым ногам хворостиной.
– Ну? Что молчишь, Комарица?
– Ну платок. И что? – наконец выговорила Комарова.
– Скажешь, не твоей сестры?
– Тоша, ну перестань, ну нахулиганили девочки по глупости... – еще раз попыталась вступиться за Комарову Олеся Иванна.
Антон снова дернул плечом и не ответил. Семринский парень смотрел на Комарову с любопытством и как будто с сочувствием, или так только казалось из-за его разбитой губы. На улице лаяли собаки, на станции свистнула электричка, прошла без остановки – на Великие Луки или на Лугу.
– Ну что? – Антон поднял платок двумя пальцами, потряс у Комаровой перед носом. На платке были нарисованы большие розовые и синие цветы. Уголок у него был надорван – значит, зацепился за проволоку, а Ленка, дура, не заметила. Вот дура… Антон бросил платок, сжал костистый кулак. При Олесе Иванне драться не полезет. Комарова взяла негнущимися пальцами платок с прилавка.
– Это мой. Ленка вчера весь день на хозяйстве была, я одна все...
– Что, думала, не узнаю?
– Думала, не узнаешь, – тихо ответила Комарова.
Комаровых мальчишки никогда особенно не трогали – разве что по мелочи, – потому что те были местные. Городских они мучили нещадно: парней просто били, девчонкам бросали в волосы репьи, задирали юбки, не давали прохода, и многие на следующий год не приезжали снимать в поселке дачу. Комарова сделала шаг назад, и в спину уперлись полки с продуктами. Он не отстанет теперь. Если сейчас ничего не сделает – сделает потом. Однажды они поймали Светку и затащили в пещеры – за железной дорогой студенты с биостанции копали берег, искали какие-то прошлогодние ракушки. Светка, так за все годы и не научившаяся плавать, просидела там целую ночь, боясь войти в воду, продрогла и потом до конца лета ходила простуженная, и Комаровы дразнили ее сопливой.
– Это ты зря думала.
Дверь скрипнула, и Антон обернулся.
– Добрый день, Олеся Ивановна.
Максим! Комарова привстала на цыпочки и помахала ему рукой. Максим пожал Босому руку, кивнул Комаровой. Максим был из местных, но держался всегда особняком; большинство его сверстников уехали в город – кто учиться, кто работать, а он остался в поселке, учиться не пошел и устроился путевым обходчиком на станцию. Он был высокий, широкоплечий, красивый и в отличие от остальных почти не пил, и странно было, что он не уехал и не нашел себе другого занятия. Женщины говорили про Максима, что он всем хорош, только от жизни как будто ничего не хочет, а когда его спрашивали, почему так, он либо отмалчивался, либо отшучивался.
– Дай пачку «Беломора».
Комарова прежде Олеси Иванны бросилась к полке с сигаретами и папиросами, быстро ухватила из стопки бело-синюю квадратную пачку и протянула Максиму. Он взял, открыл, достал одну папиросу, помял патрон и сунул в рот, не закуривая.
– Охота вам всем этой паклей травиться, – усмехнулась Олеся Иванна.
Максим улыбнулся:
– Умная ты женщина, Олеся, а простых вещей не понимаешь.
Комарова засмеялась было, но встретила злой взгляд Антона и притихла.
– Ладно, Комарица, потом с тобой поговорим. Бывай, Макс.
Антон хлопнул по протянутой руке Максима, подмигнул Олесе Иванне. Она задумчиво накручивала на палец завитой локон. Семринский парень боком протиснулся в закрывающуюся дверь. На станции снова засвистела электричка, глухо застучала по рельсам.
– Вон как стучит. Летом так не стучали.
– Это почему?
Максим поглядел на Комарову, ответил не сразу.
– В тепле металл расширяется, стыки делаются плотнее. – Он вынул изо рта папиросу, помял ее еще пальцами. – Батю твоего сегодня видел.
– Пьяный был, что ли?
– Ну…
Максим постоял немного, как бы раздумывая, не нужно ли купить чего еще, сунул руки в карманы джинсов. Комарова отвернулась, поправляла что-то на полках, прикрепила кнопкой упавший на пол ценник.
– Там на станцию товарняк пришел, вагонов триста…
Комарова быстро обернулась:
– Да ладно!
– Ну да. Приходи завтра утром, посмотришь.
– А не уйдет до завтрего?
– Куда он денется...
Максим глянул на Олесю Иванну: та сидела на своем стуле, покачивала ногой и усмехалась непонятно чему – вот за что эта баба всем нравится? На памяти Максима два женатых мужика к ней ходили – весь поселок знал, и жена одного из них прибежала в магазин и кричала, что Олеська – змея и проститутка, а потом схватила с прилавка пакет с сахаром и бросила ей в морду.
– Завтра утром приду, – сказала Комарова и тоже обернулась на Олесю Иванну.
– Пойди, Катя, пойди, посмотри на поезд, а сюда приходи к двенадцати.
После обеда покупателей стало больше, а к закрытию – магазин закрывался в пять тридцать – выстроилась небольшая очередь, так что Комарова, торопясь помочь Олесе Иванне, чуть не опрокинула на себя лоток с хлебом. Отпустив последнего покупателя – это оказался незнакомый Комаровой парень, должно быть, тоже из семринских или из сусанинских, приехавших вчера смотреть футбольный матч, – Олеся Иванна закрыла дверь на большую, покрытую рыжими пятнами щеколду.
– Ну что, устала, Катя?
– Да не, ничё так. – Комарова подняла руки, потянулась. В сгибах локтей заныло.
– Ты пойди, посмотри завтра на поезд-то. А сюда приходи к двенадцати, я тут без тебя справлюсь. – Олеся Иванна подмигнула, взмахнув густо накрашенными ресницами.
Комарова сунула руку в карман – там было пусто: с утра, боясь опоздать, она впопыхах забыла взять с собой самокрутку, оставила на столе в комнате. Ленка, значит, скурила…
– Олеся Иванна…
– Чего тебе еще?
– Можно, я одну беломорину возьму?
– Куда тебе?
В магазине всегда имелась открытая пачка «Беломора» или «Примы» – специально чтобы продавать папиросы в розницу тем, у кого туго с деньгами. Олеся Иванна, правда, в этом случае проявляла щедрость и, бывало, просто угощала папироской нравившихся ей мужчин – они это знали и имели лишний повод заглянуть в магазин. Комарова не ответила, стояла, переминаясь с ноги на ногу. Олеся Иванна вздохнула, взяла открытую пачку с полки, протянула ей.
– Ну, бери… Да бери, бери, но двадцать копеек я с тебя вычту. И платок свой возьми. Накинь на плечи, на улице уже холодно.
Комарова вышла через заднюю дверь, вспомнила, что забыла попросить спички, покрутила папиросу в пальцах и сунула в карман. Солнце стояло еще высоко, но светило тускло, по-осеннему, и правда было немного зябко. Комарова поежилась и плотнее укуталась в платок. Ну, Ленка… всегда же по кустам ползает… спешила, значит, бежала дорогой, и бесстыжие сестры ее видели и донесли Босому… вымазать бы им все окна свиным навозом. Бабка говорила, так раньше делали, двери и окна свиным навозом мазали, чтобы все знали: здесь живет бесстыжий и дрянной человек. Комарова перешла центральную дорогу и побрела тропинкой вдоль обочины. Кто-то окликнул ее – она не остановилась и ускорила шаг.
– Да постой же ты, Комарица!
Комарова побежала.
– Да стой ты уже!
Стас догнал быстро, забежал вперед и встал, раскинув в стороны длинные руки и наклонив голову, как бы собираясь бодаться. В кусты, потом через канаву, на боковую улицу… она сделала маленький шаг вбок. Стас дернулся, будто хотел ее схватить.
– Да стой ты. Я тебе ничего не сделаю.
– Чего тебе?
– Да ничего.
– Тогда чего бежал?
Он молчал, смотрел исподлобья, жевал длинный стебелек тимофеевки: из всех парней Стас единственный не курил. Продолговатый колосок мелькал в воздухе справа налево, вверх-вниз…
– Быстро бегаешь для девчонки.
– И чего?
– Что ты заладила: чего да чего…
Это он, небось, от Татьяны только возвращается – Сергий живет на другом берегу, да и Татьяна сразу никогда не отпустит, сначала чаем напоит. Добрая она, Татьяна.
– Слушай, Комарица…
– Ну, чего тебе?
– Да что ты опять заладила? – Он выплюнул тимофеевку, снова молча уставился.
– Ты руки-то опусти, что ты стоишь как дурак?
Стас послушно опустил руки, сунул большие пальцы под потертый кожаный ремень.
– Слушай, Комарица… Босой вам обеим головы поотрывает.
Те, кто с Антоном водились, Босым его обыкновенно не называли, и сам он это прозвище сильно не любил, потому что получил его, когда однажды отец погнал его за водкой в одних трусах и футболке, а стоял уже ноябрь, и деревья тянули к сыпавшему дождем небу черные ветви. Кто первым обозвал Антона Босым, давно забылось, но прозвище прилепилось намертво.
– Знаю. И чего теперь?
– Ничего ты не знаешь, Комарица.
– Так скажи!
Стас поджал губы, опустил голову еще ниже.
– Ну? Скажешь или нет?..
– Слушай, Комарица…
– Никакая я тебе не Комарица. Екатерина я. Раба Божия Екатерина. Понял?
– Понял, – нехотя ответил Стас, не поднимая головы.
Комарова шагнула к нему:
– Пройти дай.
Он отступил, пропуская ее. Комарова свернула на узкую улочку, спускавшуюся к реке, и вскоре скрылась за частоколом заборов и мельтешением по-вечернему густых теней листвы. Стас постоял еще немного, повернулся и зашагал к станции. Вот ведь упрямая девка – слова не дала сказать. Он сорвал росшую на обочине травинку и зажал между зубами. Раба Божия Екатерина! Было досадно. Он-то с ней по-человечески…
От реки тянуло прохладой и пахло тиной. Комарова осторожно спустилась по деревянным ступенькам к длинному мостку – вода стояла высоко, и мосток как бы лежал на ней. Комарова уселась на шершавые доски, скрестив ноги. Река была темной и казалась густой, как кисель, на середине ее медленно кружилось несколько небольших воронок. В этом месте, говорили, был омут, и даже местные не решались здесь купаться: как-то раз Комарова, полоща белье, поскользнулась и полетела в воду, и течение, неожиданно сильное, потащило ее на глубину. Противоположный берег, сложенный из полос красной глины и песка, был весь изрыт ласточками: то из одного, то из другого отверстия то и дело высовывались черные птичьи головки, что-то пищали и тотчас юркали обратно.
– Чё, сидишь тут?
Она обернулась: Ленка продиралась откуда-то сбоку, из приречных зарослей. Волосы ее были растрепаны и торчали, в них застряли сухие травинки и листики.
– Чё, сидишь? – повторила Ленка и шмыгнула носом.
– Сижу.
– А я думаю: ты – не ты?
– Кому еще?
Прошлым летом они видели здесь русалку: голая девка, по пояс в воде, локтями оперлась на мостки и делает бусы из кувшинок, совсем как обыкновенные девчонки (сколько раз Комарова сама делала такие же Ленке), – надрывает ногтем круглый стебель, надламывает его так, чтобы осталась только перемычка тонкой плотной кожицы, чуть оттягивает кусочек стебля вниз – кожица легко отстает от него, – потом снова надламывает стебель и снова тянет, уже с противоположной стороны, так что выходят две аккуратные нити зеленых бусин. Сделала, накинула на шею, погляделась в воду, засмеялась и ушла в глубину.
– Я тебе тут вот…
Ленка пошарила в кармане, вытащила самокрутку и спичечный коробок, протянула Комаровой. Та стащила с плеч платок, скомкала в кулаке, ткнула Ленке в физиономию:
– Это что такое?!
– Ой, это же платок мой. Где нашла?
Комарова выхватила у Ленки самокрутку, зачиркала спичкой. Кувшинки давно отцвели и погрузили в воду кубышки с семенами – на поверхности покачивались только круглые листья.
– Ну Кать, ты чё?
– Я тебе сейчас за твое «чё» по лбу дам.
– Да ну чё?
Комарова размахнулась и влепила Ленке затрещину. Ленка отшатнулась, сжалась, закрылась руками.
– Ну?! Знаешь, что нам теперь будет?
– Да чего… – Ленка шмыгнула носом, убрала от лица руки. – Чего они нам сделают… – Она осторожно подняла упавший платок, накинула на плечи и завязала узелком на груди.
Комарова вздохнула и отвернулась. Река, ко всему равнодушная, плескала и булькала что-то свое, пенилась, кружила какие-то палочки, щепочки, листочки, несла их в Лугу, а из Луги – в залив. И Комарову она тогда подхватила так же легко и так бы и несла, кружа и играя, если бы платье не намокло и не потянуло ко дну. Комарова бросила в воду недокуренную самокрутку, вода завертела ее и понесла прочь.
– Ленка…
– Чё… чего такое?
– Ты правда хочешь в город уехать?
– А то…
– Кому ты там нужна, в городе?
– Выйду за городского и уеду.
Комарова помолчала, потом сняла туфли и носки, уселась на край мостка и опустила ноги в воду – они тут же онемели по самые колени. Комарова попробовала пошевелить пальцами и не поняла, получилось у нее или нет.
– За городского ты выйдешь… у тебя и трусов-то приличных нет.
– Будут. – Ленка шмыгнула носом. – Ты не простудись, чё ты села-то…
Комарова подтянулась на руках, вытащила ноги из воды – зябкий вечерний воздух вдруг показался горячим, и она быстро натянула носки и надела туфли.
– Опять ты со своим «чё».
– Ну чего тогда… – поправилась Ленка.
– Дура ты все-таки.
– Ну чё… какая есть.
Ленкины слова вдруг показались смешными, и Комарова рассмеялась. Ленка подхватила, и они смеялись долго, хватаясь друг за друга руками, потом переставали и снова начинали смеяться, пока дыхание не стало сбивчивым и прерывистым, как после долгого бега.
На обратном пути сделали большой крюк, дошли до пожарки – старой, давно разрушенной пожарной части, от которой остался только фундамент, две стены и печная труба, и накопали топинамбура; топинамбур уже отцветал, но кое-где покачивались еще на тонких стеблях золотистые цветки с длинными лепестками. Клубни сразу съели, тщательно обтерев подолом Ленкиного платья – они были холодные, хрусткие и чуть сладковатые. Ленка присела на корточки, поковырялась в земле, вытащила еще несколько маленьких клубней.
– Оставь, куда их…
– Пригодятся. Мелким отдам.
– Оставь… весной прорастут.
Ленка с сожалением поглядела на клубни, покатала на ладони, потом закопала обратно и похлопала по земле ладонями.
Домой вернулись, когда уже темнело. Батя поджидал их на крыльце: сидел верхом на перилах, свесив ноги по обе стороны, – Ленка тоже так часто сидела. Перед ним была полупустая бутылка пива; увидев Комаровых, он отхлебнул из бутылки, слез с перил, неуклюже перекинув ноги на одну сторону, встал, пошатываясь, ухватился за дверную ручку. Он был высокий и в молодости красивый, и даже теперь волосы его оставались густыми и в них не было заметно седины, но лицо было испитое и все как будто состояло из морщин и красноватых припухлостей. Ленка попятилась, спряталась за спину сестры.
– Прибьет, – шепнула Ленка. – Я же деньги-то…
Батя начал осторожно спускаться с крыльца, хватаясь за перила обеими руками и боком переставляя ноги. Ленка схватила Комарову за рукав, потянула. Комарова сделала шаг назад.
– Погоди…
– Прибьет, – еще тише повторила Ленка и потянула сильнее.
– Да погоди ты…
Комарова стояла и пялилась на батю в каком-то оцепенении. Перед глазами снова появилось красное пятно на ноге Олеси Иванны, потом пропало. Слова Ленки слышались как будто через плотный туман.
– Ка-ать!
Комарова встряхнула головой, чтобы разогнать туман, повернулась, схватилась за щеколду калитки, дернула ее не в ту сторону, и калитка закрылась. Ленка мешала, тормошила и вдруг куда-то пропала: батя, ухватив ее одной рукой за тонкую шею, другой за плечо, оттащил в сторону и ударил головой о заборный столб. Комарова рванула щеколду, та шершаво проехалась по пальцам, калитка заскрипела и от пинка распахнулась настежь.
– Пусти! Батя, пусти, больно! – верещала Ленка, пытаясь вывернуться.
Половина лица у нее была залита кровью, и широко раскрытые глаза в сумерках казались белыми. Лорд выскочил из конуры и залаял, подпрыгивая и звеня цепью. Батя рванул Ленку за плечо, и Комаровой показалось, что Ленкины ноги на какую-то секунду оторвались от земли, схватил за растрепанные волосы, повернул и еще раз ударил головой о забор. Ленка заскулила. Комарова бросилась к бате, изо всех сил заколотила его руками по спине:
– Пусти ее, убьешь, пусти, сволочь! Убьешь!
Он покачнулся, навалился на Ленку, прижимая ее к забору, но уже отпустил, и Комарова, схватив Ленку за руки, потянула ее на себя. Батя попытался пихнуть Комарову локтем в живот, но не попал: она увернулась, побежала к калитке, таща за собой вдруг ставшую ужасно тяжелой Ленку. Трава сухо шелестела под ногами. Комарова обернулась: батя за ними не гнался и сидел неподвижно, привалившись спиной к забору.
На центральной дороге было пусто, но Комаровы все равно спустились на тропинку и пошли вдоль заборов, за которыми было уже тихо, и только иногда, услышав их шаги, тявкала какая-нибудь собака, или кошка, сидевшая неподвижно на заборе, спрыгивала в кусты. Ленка шла, пошатываясь, сложив руки на груди и низко опустив голову, так что слипшиеся волосы почти закрывали лицо, и время от времени тихонько всхлипывала.
– Молчи, – шикнула на нее Комарова, – молчи.
Они свернули на узкую дорожку, обошли пригорок, на котором стояла церковь; в темноте ее было почти не разглядеть, только черный силуэт с крестом стоял неподвижно, как будто нарисованный на небе черной краской. За церковью дорожка полого спускалась к реке, Комарова взяла Ленку за руку, и они пошли осторожно, отодвигая лезущие в лицо метелки камыша. В камышах непрестанно что-то шуршало, тонким голосом вдруг закричала потревоженная птица и невидимо порхнула из зарослей. Под ногами было скользко: этим путем к воде часто спускались коровы, возвращавшиеся с выпаса, и взрыхляли влажную землю широкими копытами. Дойдя до берега, Комаровы присели на корточки, и Катя, зачерпнув горстью холодной, пахнущей тиной воды, плеснула Ленке в лицо.
– Холодно! – взвизгнула Ленка.
– Терпи… куда ты пойдешь с такой рожей?
– Холодно, – повторила Ленка и захныкала.
– Ну, не реви, до свадьбы заживет.
Ленка сжала губы, еще раз сдержанно всхлипнула, вздрогнув всем телом, и вдруг громко и протяжно завыла. Комарова обхватила ее за плечи, крепко прижала к себе. Ленка ткнулась мокрым лицом ей в шею, и за шиворот Комаровой потекли ее теплые слезы. Она встала, потянув Ленку за собой, и они постояли недолго обнявшись, а потом медленно побрели обратно, выбираясь из камышей.
К Сергию идти было далеко: нужно было пройти еще немного в сторону станции, перейти по деревянному мосту на высокий берег реки и там еще два километра – слава богу, прямой дорогой, потому что и при свете дня Комарова не была бы уверена, что не заблудится в той части поселка. Ленка наконец взяла себя в руки и шла молча, только слышно было, как в туфлях у нее при каждом шаге негромко хлюпает.
– Ленка…
– Чё?
– Болит у тебя?
– Да так…
Дошли они, когда темнота уже стала плотной, хоть режь ее ножом, небо затянули тучи и снова начал накрапывать мелкий дождь. Комарова дернула ручку калитки, с другой стороны зазвенела цепочка, и глухо, видимо, сквозь сон, гавкнула собака.
– Точно здесь?
Как-то раз, когда жива была еще бабка Марья, Комарова загулялась допоздна и пришла домой затемно – бабка стояла на ступенях крыльца, сжимая в руке несколько прутьев, выломанных из старого веника, и, когда Комарова поднималась на крыльцо, изо всей силы отстегала ее по ногам. Потом, когда Комарова уже лежала в кровати, бабка тихо вошла в комнату, присела рядом и положила ей на лоб жесткую, уже чуть дрожавшую ладонь – незадолго перед смертью у нее отчего-то сильно дрожали руки, – и Комарова тогда натянула на голову одеяло, а бабка продолжала гладить ее через одеяло, повторяя: «Ну, прости меня, Катя, прости меня, дуру старую».
– Погоди, заперто…
Комарова потянула на себя калитку так, чтобы в щель можно было просунуть руку, нащупала цепочку, дернула ее вверх и стащила с крючка. Собака снова гавкнула, и Комарова замерла, прижавшись щекой к шершавым доскам.
– Ну, чего?.. Получилось? – нетерпеливо прошептала Ленка.
– Погоди…
Она приоткрыла калитку, взяла Ленку за руку, и они вошли внутрь. Шорох дождя заглушал их шаги, и они быстро пробежали по тропинке к дому – над крыльцом горела лампочка, освещая недавно покрашенную дверь, расписанную какими-то завитушками и листиками, коврик у порога и две верхние ступеньки. Комарова бросила Ленку, подскочила к двери и принялась стучать обеими руками, так что сразу заболели костяшки пальцев.
– Тетя Таня! Дядя Сережа! Это мы!
Собака наконец проснулась и залаяла густым басом.
– Тетя Таня! Дядя Сережа!
За дверью послышались торопливые шаги, щелкнул замок, и на пороге появилась Татьяна в длинной до пят ночной рубашке. Волосы, которые она обыкновенно носила заплетенными в косу и закрывала платком, были распущены и спускались темными рыжими волнами до самого пояса. Увидев Комаровых, Татьяна тихо охнула и закрыла округлившийся в удивлении рот ладонью. Затем быстрым движением схватила обеих за плечи и втащила в прихожую.
– Что же это вы! Что же это! – отрывисто восклицала Татьяна, таща их дальше, в кухню, крепко удерживая, как будто они могли убежать обратно в ночную промозглую темень.
– Теть Тань… у нас ноги грязные, натопчем тут у вас.
Комарова глянула на Ленку: руки, ноги, лицо ее были перемазаны густой, начавшей уже подсыхать грязью, платье было порвано, по голове прямо вдоль пробора тянулась глубокая рана с разошедшимися краями. И сама она, скорее всего, не лучше. А про черта-то Нинка выдумала небось за то, что Татьяна рыжая, – говорят, к рыжим пристает нечистая сила. В кухне Татьяна засуетилась, вытаскивая из шкафа тазы и наливая в них воду. Комарова огляделась: кухня была меньше, чем у них, но аккуратная и чисто прибранная и всюду были разложены вышитые салфетки и всякие тряпочки, которые – видно было – часто и бережно стирали и разглаживали. Возле плиты стояла миска с водой и блюдечко для кошки, блюдечко тоже было чистое, видимо, Татьяна мыла его каждый раз, как кошка поест.
– Катя, помоги-ка.
Комарова послушно подскочила, оттащила один из тазов на середину кухни, взяла из Татьяниных рук чайник и поставила на плиту. Ленка сидела на стуле, скорчившись и поджав ноги.
– Ну-ка… Сережа мой в отъезде, поехал утром в Куровицы, только завтра вернется.
Пока закипала первая порция воды в чайнике, Татьяна принесла несколько больших махровых полотенец, две пары шерстяных носков и пару рубашек, потом заставила Комаровых раздеться и вымыла обеих в тазу, поливая сверху разбавленной, но все равно слишком горячей водой. Ленка ойкала, когда вода попадала ей на рану, и дергала головой, но Татьяна все равно тщательно все промыла и намазала какой-то мазью с горьким травяным запахом. Потом она укутала сестер в полотенца и напоила чаем, дав к чаю пирога с капустой и яйцом и булки с малиновым вареньем. Сама села напротив, подперев подбородок ладонью. Жалко, что Сережи нет, он бы с ними поговорил, он всегда найдет слово утешения, не зря при нем чуть не половина поселка стала ходить в церковь. Татьяна вздохнула. В лесу плаксиво закричала выпь. Ленка вытянула худую шею и прислушалась:
– Это она к несчастью кричит…
Татьяна широко перекрестилась:
– Что ты, Лена, бог с тобой! К какому еще несчастью?
И скатерть, и занавески на окнах тоже были чистые, без единого пятнышка, как будто их только что выстирали, и за ними просвечивало несколько кустиков красной герани в керамических горшках. Комарова поглядела на Татьяну. Татьяна тоже была чистая. Как говорил батя, «плюнуть и отвернуться».
– Теть Тань… а далеко эти Куровицы-то?
Татьяна пожала плечами:
– Да не близко…
– Небось и электричка туда не ходит.
– Так слово Божие везде нужно, вот он и ездит... и без электрички, так… бывает, кому по пути, тот подвезет…
Она снова вздохнула и задумалась. Сергий в свободное время обыкновенно либо читал Священное Писание, либо рисовал, а она пристраивалась рядом с вышивкой. С ней он разговаривал немного, только и разговору, что перекрестит трижды на ночь и пожелает крепкого сна. Ленка запихала в рот последний кусок булки с вареньем, облизала пальцы. Старшая Комарова молчала и глядела в окно, как будто хотела рассмотреть что-то в темноте. Вот же – дал Бог людям детей, а на что им? Татьяна потеребила пальцами угол скатерти. Дал же Бог людям детей…
– Теть Тань… – Ленка поерзала на стуле.
– Что такое, Лена?
– А вы в городе когда-нибудь бывали?
Комарова вздрогнула, коротко глянула на Ленку, потом снова отвернулась.
– Никогда не бывала, – почему-то смутившись, ответила Татьяна. – Я дальше Сусанина нигде не бывала… А в Сусанине красиво, и церковь там старенькая, с иконами мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, и киот мраморный…
– Угу, понятно, – кивнула Ленка, и видно было, что ей неинтересно. Комаровой захотелось еще раз дать ей по уху.
Татьяна уложила их спать на печной лежанке: дом у Сергия был новый, но в нем стояла громадная, сложенная по всем правилам русская печь. На досуге Сергий расписал и ее, и по всему опечью, трубе и своду тянулся узор: чудные звери и птицы сидели на переплетенных ветках и листьях, ухватившись за них цепкими лапами. На стене Сергий изобразил рыжего кота с круглыми зелеными глазами и свернутым в кольцо хвостом. В комнате было жарко, и печь была теплой: Татьяна топила ее ранним утром, решив, что уже пора. По правде, она всегда ждала холодов, чтобы можно было топить печь хоть каждый день и в ней же готовить: на газовой плите у нее выходило плохо, все никак не получалось приноровиться. Комарова вытянулась под тонким шерстяным одеялом. В доме стояла тишина, только Татьяна пару раз громыхнула в кухне тазами: она не любила оставлять дом на ночь неприбранным. Ленка лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку, и тихо посапывала. Комарова закрыла глаза, и день вдруг показался ей очень длинным и очень далеким, как будто все произошло не с ними, а с кем-то другим.
3
Проснулась Комарова ни свет ни заря – Ленка еще спала, с головой накрывшись одеялом. Комарова спустила ноги с лежанки, повисла на руках и спрыгнула на пол, босые пятки тихо стукнули о доски, и Ленка что-то застонала сквозь сон. Она на цыпочках пробралась в кухню, съела всухомятку кусок вчерашнего пирога и наскоро умылась – вода в умывальнике за ночь совсем остыла. Платья их висели на спинке стула: Татьяна застирала им подолы и зашила прорехи. Комарова быстро оделась, сунула ноги в туфли. Татьяна, наверное, еще спит, не разбудить бы. Сергий ее в Куровицах. Комарова зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться, сама не зная чему. Куровицы – слово смешное, что ли… Небо за окном было чистое, как будто его протерли влажной тряпкой, и розовело на горизонте. Она тихо прокралась по дому, вышла во двор, прошла мимо будки; громадная лохматая собака лежала, высунувшись на улицу и положив голову на лапы; почуяв Комарову, она приоткрыла глаза и тотчас снова закрыла. В поселке всех собак звали либо Шариками, либо Дружками, только у Комаровых был Лорд – это мать так придумала.
– Шарик… – шепотом позвала Комарова.
Пес не отозвался.
– Дружо-ок…
Пес вздохнул, снова приоткрыл глаза и приподнял голову.
– Дружо-ок, хоро-ошая собака…
Поселок просыпался поздно; с рассветом вставали только те, кто держал корову или другую скотину, но таких оставалось все меньше: большинство работали, а летом сдавали дачи и потом полученные за три месяца деньги и заготовки с огорода умудрялись растягивать на весь оставшийся год. Комаровы тоже несколько лет подряд сдавали дачникам второй этаж, пока не вышло скандала: батя напился и пристал к дачнице, студентке из города, и парень этой студентки набил бате морду и спустил его с лестницы. На следующий же день они съехали, а когда мать заводила разговоры о том, что надо бы сдать несколько комнат, батя начинал орать, что больше не потерпит в доме никаких городских, что грязи от них много, а пользы – с гулькин нос.
За домами застучала по рельсам электричка, и Комарова прибавила шагу. Может быть, и права Ленка, что так хочет уехать в город. Если ее причесать, она и на человека будет похожа, никто не скажет, что приехала из поселка. Комарова провела пятерней по голове, поморщилась, случайно выдернув несколько волосинок. Бабка говорила: «Раскрасавицы мои, вот вырастете – все женихи будут ваши». Ленка, тогда еще совсем мелкая, радовалась, а Комарова на «раскрасавицу» злилась и как-то раз отказалась есть сваренную бабкой манную кашу, и бабка, подвинув к ней тарелку, сказала: «Ну ешь, ешь, кикимора моя». Ленка тогда сильно смеялась на «кикимору» и чуть не подавилась. Комарова пнула подвернувшийся под ногу камешек, и он запрыгал по дороге, как живой. Вот распустит она волосы, спутает их колтунами, наденет платье шиворот-навыворот, пойдет на болото к кикиморам и скажет: «Это я, Комарова Екатерина Михайловна, больше никакая не раба Божия Екатерина, а просто Комарица, примите меня к себе» – и останется навсегда жить в лесу...
На станцию Комарова пришла, когда уже совсем рассвело. В поселке соединялось несколько пассажирских и грузовых направлений – можно было подняться на высокий пешеходный мост и увидеть сверху тянущиеся в обе стороны рельсы. Комаровы пытались пересчитать пути и несколько раз сбивались со счета, пока им не надоело. Путей было много, они то сливались, то снова расходились. На путях отдельно друг от друга стояли электрички и товарняки. Комарова поднялась на платформу: несколько человек рассеянно бродили по ней, другие сидели на деревянных скамейках или прямо на платформе, подстелив что-нибудь из верхней одежды. На самом краю, вытянув шею и склонив набок голову, лежала, подобрав под себя лапы, пушистая серая кошка. Комарова присела рядом на корточки.
– Чего, Люська, поезда ждешь?
Кошка не пошевелилась: она была глухая и жила на станции, сколько Комарова себя помнила. Комарова погладила ее и пожалела, что ничего не взяла с собой угостить.
– Лежи, Люська, лежи.
Кошка мурлыкнула, дернула ухом, и Комарова еще несколько раз провела пальцами по ее серой, как будто выцветшей от солнца спине.
– Совсем ты старая стала, Люська…
Ее окликнул по имени знакомый голос, и она обернулась: по платформе, широко размахивая руками, шел Максим. Комарова встала, отряхнула подол и помахала в ответ. Максим подошел и пожал ей руку, как парню:
– Ну что, Катя… на поезд пришла посмотреть?
– Не ушел еще?
– Да куда он денется… – Максим поскреб пятерней затылок. – Они тут подолгу стоят, на сортировке. Пока то, пока это…
– Понятно…
Максим похлопал себя по карманам, досадливо поморщился:
– Папирос нет. Вчера все мужикам роздал.
Комарова вытащила из кармана беломорину, взятую с вечера у Олеси Иванны. Хорошо, Татьяна не нашла – было бы разговоров.
– Угощаю.
– Вот спасибо.
Максим взял папиросу, помял пальцами патрон, зажал между зубами, щелкнул зажигалкой и с удовольствием затянулся:
– Утро мне спасла, Катя…
Комарова почувствовала, что краснеет, и опустила голову. Асфальт на платформе был старый и кое-где совсем отвалился, так что видны были серые бетонные плиты. Из стыков рос плотный ярко-зеленый мох. Ходят по этом мху, топчут ногами, и ничего ему не делается, только гуще становится.
– Ну, пойдем, что ли?
Комаровы и раньше с другими ребятами бегали на сортировку смотреть на товарняки, работники станции их гоняли, а одного мальчика из дачников как-то раз даже сдали в милицию за то, что лазал через сцепку. Родители его наказали и запретили играть с «деревенскими». Вблизи товарные поезда были похожи на громадных спящих животных со страшными мордами, и шедший от них запах гари, смазки, свежеспиленного дерева – те, что шли в сторону города, были по большей части гружены сосновым лесом – смешивался с запахом креозота, поднимавшимся от шпал.
– Это вагон для песку, с открытым верхом, – пояснял Максим, дымя папиросой. – А это – цистерна… в ней нефть возят ну или, например, бензин. Короче, всякий жидкий груз. Сейчас они тут пустые стоят. – Максим стукнул по цистерне кулаком, и она ответила низким металлическим гулом.
– А это?
– Это хоппер. Он для зерна, вот у него внизу вроде коровьего вымени, чтобы зерно ссыпать.
Комарова приподнялась на цыпочки, чтобы потрогать цистерну. Максим вдруг обхватил ее обеими руками за талию и легко поднял, так что она чуть не ткнулась носом в давно не мытый, весь в густых желто-черных потеках бок цистерны и, испугавшись, ухватилась за руки Максима.
– Да не бойся, Кать, не уроню!
От цистерны шел такой сильный запах, что у Комаровой заслезились глаза.
– Ну, как оно?
Комарова потрогала стенку сначала кончиками пальцев, а потом приложила к ней обе ладони: стенка была теплая, шершавая и немного липкая.
– Да ничего так!
Максим опустил ее на землю, улыбнулся. Комарова улыбнулась в ответ. Солнце светило ей прямо в глаза, и видела она только блестевшие белым зубы Максима и светящуюся шапку волос на его голове.
– Катя…
– Чего?
– Да так, ничего…
Максим наклонился, растер о рельсу тлеющий бычок. Они прошли между поездами; товарняк, о котором рассказывал Максим, и вправду оказался очень длинным, и Комаровой, пока шли от его хвоста до плоской железной морды, показалось, что он тянется до следующей станции – в поселке было несколько станций с названиями «Платформа-1», «Платформа-2», «Платформа-4» и «Платформа-5», третьей почему-то не было, и только на «Платформе-1» и «Платформе-2» останавливались пассажирские. Когда поднялись на перрон, как раз подошла электричка. Один мужик спал, сидя враскоряку на скамейке и уронив на грудь голову. Максим подошел к нему, потряс за плечо:
– Твой поезд пришел! Вставай уже!
Мужик открыл глаза, пробормотал что-то и снова провалился в сон. Комарова подошла ближе, дернула Максима за рукав:
– Не трожь его. Проснется – даст еще по роже.
– Я сам кому хочешь по роже дам, – добродушно ответил Максим и показал Комаровой кулак. Кулак был большой, с набитыми на костяшках мозолями. Комарова уважительно присвистнула.
Электричка лязгнула дверями, дернулась и поползла, все быстрее стуча колесами, в сторону города. Кошка Люська сидела на краю платформы, наклонив набок голову и перебирая лапами, и сосредоточенно смотрела вслед исчезающему за поворотом хвосту.
– Слушай, Кать…
– Чего?
– Да я так… ничего…
– Да говори, чего там...
– А не обидишься?
– Да нет… чего обижаться?
– Слушай… говорят, твоя бабка в войну партизанкой была.
Комарова вспомнила, как бабка, сидя сгорбившись за столом, макает в чай печенье, и руки у нее трясутся так, что она не всегда доносит размоченное печенье до рта, и кусок с мокрым шлепком падает на клеенку, и как отец таскал ее за длинные седые космы по двору, и Лорд прыгал вокруг своей будки, звеня цепью и заливаясь визгливым лаем. Она отрицательно покачала головой.
– Что, ничего не рассказывала?
– Да говорю же…
– А она у тебя какого года?
– Двадцать шестого.
Максим нахмурился, поскреб пятерней затылок.
– Значит, в войну была девчонкой навроде тебя. Ты б смогла поезд под откос пустить?
Комарова пожала плечами:
– Так ведь если в войну… может, и смогла бы.
– А человека из винтовки застрелить?
Комарова задумалась, потом сказала неуверенно:
– Так ведь если война…
– Вот видишь! – обрадовался Максим. – Значит, была твоя бабка партизанкой и вражеские поезда под откос пускала.
– Это почему это?
– Сама же говоришь – если бы война, смогла бы.
– Так то я, а то моя бабка, – заупрямилась Комарова.
Когда им влетало от бати или от матери, они приходили к бабке в комнату – крохотную, узкую, где помещалась только кровать, маленький столик и шкаф с тряпьем. Печки в комнате не было, поэтому осенью и зимой там было холодно, и бабка сидела на кровати в шерстяных носках и валенках и куталась в шерстяное одеяло. Когда Комаровы приходили, она откладывала в сторону вязание, пододвигалась, чтобы они могли присесть рядом на кровати, и рассказывала что-нибудь из прошлого. Однажды было про какого-то заезжего комиссара, который в нее влюбился и обещал увезти в город, но что-то у них не заладилось, и комиссар уехал один. Комарова с Ленкой представляли себе этого комиссара на коне и с саблей, с орденами и медалями на груди, и каждой хотелось, чтобы когда-нибудь к ней тоже приехал такой комиссар, только Ленка мечтала, чтобы он увез ее в город, а Комарова – чтобы остался с ней в поселке, и они спорили и чуть не дрались, потому что комиссар был один, а их – двое, и, кого из них он бы выбрал, было непонятно.
Про войну бабка не рассказывала, говорила только, что было такое время, когда есть было совсем нечего, и что зимой люди насмерть замерзали прямо у себя в постелях. А про вражеские поезда и про винтовки – не говорила. Ну и что, в позапрошлую зиму дед Иван, живший на самом краю поселка на высоком берегу, тоже помер в своей кровати, и, когда его выносили, он был твердый, как ледышка, потому что печь две недели простояла нетопленой. Комарова вздохнула и поковыряла носком туфли торчавший из трещины в асфальте мох.
– Чего нос-то повесила, Катя? Обиделась, что ли?
Она пожала плечами.
– Да это же почетно – в войну партизанить. Это же… ну… – Максим развел руками.
– Может, и почетно… Она померла давно – какая теперь разница?
– Так люди говорят… интересно же.
– Чего интересно?
– Ну, узнать, как на самом деле было.
– Ничего не интересно, – буркнула Комарова и отвернулась. – Болтают только…
Когда бабка померла и ее хоронили на кладбище возле церкви, кроме двух мужиков, за бутылку вызвавшихся копать могилу, была бабка Женька и две тетки с другого конца поселка, которых Комаровы не знали; эти две незнакомые тетки пришли на похороны, только чтобы поклевать кутьи (кутью сварила Татьяна, не пожалев меда и изюма, и тетки, чего не съели, завернули в платки и унесли с собой). Сергий говорил над гробом какие-то слова, но Комарова не слышала, потому что от слез ей заложило уши, и она стояла, бессмысленно глядя перед собой, и зачем-то думала о тетках, воровавших кутью, и о том, что теперь бабкину комнату завалят хламом.
– Болтают, чего сами не знают…
– Ну ладно, – примирительно сказал Максим. – Ты не обижайся только. Не обижаешься?
– Да не обижаюсь я. – Комарова улыбнулась. – За что обижаться?..
Максим хотел спросить что-то еще, но промолчал. На дорогу он предложил напоить Комарову чаем в домике дежурного по станции, который все называли «зеленым домиком», потому что он был выкрашен всегда свежей зеленой краской: красила его каждое лето тетя Света. Тетя Света, как говорила бабка Марья, работала на станции «со времен царя Гороха» и давно уже была не тетей, а бабкой, но «бабка» к ней так и не прилепилась. Когда Максим с Комаровой вошли в крохотную кухоньку, тетя Света, отработавшая ночную смену, как раз закипятила воду на плитке и собиралась пить чай. Увидев Комарову, она всплеснула руками:
– Ой, кого привел! Ну, здравствуй, Катя-Катерина!
Она полезла в шкафчик, тоже покрашенный зеленым, нашла чашку, бросила в нее чайный пакетик и залила кипятком.
Максим сел возле окна и тоже заварил себе чаю. При Светке он обыкновенно молчал: из всех баб, работавших на станции, она была самой болтливой, хотя и не самой вредной. Вот сменщица ее, Олька-коза, та была стерва, и к тому же за свою смену обыкновенно сжирала все неприколоченное, а сама никогда ничего не приносила, за что Светка ругала ее бесстыжей прорвой и однажды отхлестала по спине мокрой тряпкой. Коза за это оговорила Светку начальнику станции, и ту чуть не оштрафовали, но потом все как-то разрешилось. Лучше бы Козу оштрафовали. Светка выставила тарелку с пирожками, накрытую полотенцем, и подвинула к столу табуретку:
– Ну, садись, красавица, что встала?
Комарова уселась, обеими руками подвинула к себе горячую чашку.
– Сто лет тебя не видела, а ты что-то и не выросла совсем. Не кормят тебя, что ли?
– Да кормят, чего… – Комарова вытащила из-под полотенца пирожок и надкусила. Пирожок оказался с яйцом и рисом – тетя Света готовила вкусно, почти как Татьяна.
– Твои покормят, как же! Нарожают детей, а потом дети у них как сироты…
– Теть Света, ну чего вы… – вступился Максим.
– Молчун наш заговорил! – удивилась Светка. – Да не обижу я твою подружку… я же так только…
Светка протянула руку, чтобы погладить Комарову по макушке, но та шарахнулась в сторону, и Светка рассмеялась.
В приоткрытую дверь проскользнула Люська, подошла к тете Свете и уселась у ее ног. Та взяла пирожок, разломила надвое, наклонилась, накрошила перед Люськой прямо на пол начинку. Люська понюхала, шевельнула усами и стала есть. Тетя Света выпрямилась, доела тесто и запила чаем.
– Дома-то у тебя как?
– Да так… – Комарова пожала плечами и вытащила из-под полотенца еще один пирожок. – Так как-то…
– Что, пьянствует отец? – не отставала тетя Света.
– Пьянствует, – нехотя призналась Комарова.
– Бьет вас?
– Да так…
– Да ты сахару, сахару насыпь, что ты без сахару-то… – Тетя Света подвинула к Комаровой фарфоровую сахарницу. Комарова наскребла себе сахара, который из-за того, что все лазили в него мокрыми ложками, слипся и откалывался маленькими глыбками.
– Ну так что? Бьет он вас?
– Тетя Света, чего вы к человеку пристали… – снова начал Максим.
– А ты мне не чевокай! – обиделась Светка. – Вчера вылупился, а туда же!
Комарова размешала сахар, поболтав ложку в центре чашки, как учила бабка Марья, чтобы ложка не стукала о стенки. Тетя Света облокотилась о стол, подперев подбородок ладонями. Своих детей у нее было четверо, все давно уехали в город, жили там семьями и ее к себе особенно не звали.
– А мать как?
– Да тоже как-то так…
– Покойная Марья ее очень любила. – Тетя Света вздохнула.
По растрескавшейся оконной раме полз маленький паучок с красной спинкой, таких было много у них на огороде – Ленка называла их земляными клопами и почему-то считала, что от них бывают бородавки. Один раз, когда они сильно поссорились, Ленка насобирала целый коробок этих земляных клопов и высыпала Комаровой на голову, а потом, когда помирились, каждое утро внимательно рассматривала ее лицо, так что Комарова наконец обозлилась и съездила Ленке по уху. Небось, спит там еще. Надо было разбудить и сказать, чтобы сразу шла домой и нигде не шлялась и чтобы не вздумала опять заявиться в магазин.
– А начиналось-то у них все как… Отец твой каждую пятницу на мосту стоял, ждал, издалека смотрел электричку: как ее увидит, сразу бегом на платформу – встречать. Всегда по пути цветов каких-нибудь нарвет… она с института после занятий прямо к нему ехала, совсем была еще девчонка… ты вот на нее очень похожа.
– Я знаю.
– Очень похожа… – задумчиво повторила тетя Света, рассматривая Комарову. – Прямо одно лицо.
Не пойдет она домой, бати забоится. Паучок дополз до угла рамы, встал на задние лапки, помахал в воздухе передними, ища опоры, и ухватился за край кружевной занавески.
– Это она уж когда тобой беременная ходила, он ее бить-то начал… Все хотела уйти, уезжала несколько раз, но куда с ребенком… С ребенком-то никуда… вот так и вышло…
Это Комарова знала, мать много раз говорила, что беременная хотела сбежать от бати или утопиться и даже подолгу стояла на берегу, но так и не решилась: река казалась страшной. Утопилась бы – стала бы русалкой, как все утопленники, жила бы с водяным в самом глубоком омуте и таскала бы под воду дачников. И она, Комарова, родилась бы водяницей – всё лучше, чем кикиморой. Вот Максим пошел бы летом купаться, она бы и его утащила. Комарова поглядела на Максима: тот сидел, закинув ногу на ногу, и рассматривал узор на клеенчатой скатерти.
– Сволочь все-таки ваш отец! – разобидевшись на то, что разговор не клеится, сказала тетя Света. – И Марью он в могилу свел.
Комарова пожала плечами. Мать тоже говорила, что батя бабку в могилу свел, – она бабку любила, а та ее жалела, и когда батя зверел и кидался на мать с кулаками, то крепко обхватывала ее руками и закрывала своим телом, которое чем дальше, тем больше становилось похожим на сухое дерево, и тогда батя молотил их обеих кулаками и чем под руку попадется. Вечерами бабка с матерью сидели на кухне, и мать приглушенно выла, что уйдет в одном исподнем куда глаза глядят, а бабка уговаривала потерпеть, ведь у нее Катя, Лена, Ваня, Оля – тогда их было только четверо; уже после того, как бабка померла, родились Аня, Света и младшенький Саня, который все время болел, и мать часто повторяла, что лучше бы он совсем умер.
– Теть Света… мне пора, наверное. Спасибо за пирожки, вкусные очень.
– На дорожку-то возьмешь парочку? – оживилась тетя Света.
Комарова посмотрела в раздумье на несколько пирожков, остававшихся под полотенцем, потом перевела взгляд на Максима и махнула рукой:
– Да ладно. Меня Олеся Иванна чем-нибудь покормит.
– Олеська-то… эта… – Тетя Света хотела что-то сказать, но сдержалась.
Когда Комарова с Максимом уже стояли в дверях, тетя Света вдруг спросила:
– Ты уехать-то отсюда не хочешь?
Комарова отрицательно покачала головой.
– Ну и правильно, где родился – там пригодился. – Тетя Света засыпала словами, как горохом, боясь, что не успеет наговориться напоследок. – Вон, Максимка наш... – она дернула подбородком, – …сидит на месте, не рыпается. А такого парня где хочешь бы с руками оторвали. Нравится он тебе?
– Ну, теть Света, вы чего… – обалдел Максим. – Ну это вы даете…
– А чего ты мне чевокаешь? – сразу завелась Светка. – Где я неправду сказала?
– Да ну вас совсем! – Максим хлопнул дверью кухоньки и повернулся к Комаровой.
– Ты на Светку внимания не обращай… она вообще добрая, только дура.
– Угу, – глядя себе под ноги, буркнула Комарова.
– Ты не обиделась на меня, Кать?
– За что обижаться?
– Ну… за бабку-партизанку… – Максим наклонился, пытаясь заглянуть Комаровой в лицо, но она опустила голову еще ниже – в прихожей было сумрачно, и не видно было, что у нее горят щеки. – Это же я так просто…
– Угу…
– Ты сама-то дойдешь? – Максим помялся, не зная, что еще сказать, наконец прибавил: – Проводить тебя?
– С чего это еще? Я тебе что, дура из города, дороги не знаю? – вскинулась Комарова.
– Да я так просто… Ну, давай, что ли… – Он протянул руку для пожатия, но Комарова вдруг отвернулась и выбежала на улицу, оставив дверь домика открытой.
Максим в растерянности посмотрел на свою ладонь, потом пошарил по карманам, привычно ища папиросы, вспомнил, что папирос нет, хмыкнул, вышел вслед за уже пропавшей куда-то Комаровой, сорвал травинку и зажал в зубах. Светка, наверное, неделю теперь будет на него дуться как мышь на крупу. И эта тоже… Он сплюнул. Хорошо бы успеть вечером зайти к Олесе Иванне за папиросами – их можно было взять и в ларьке, но хотелось почему-то лишний раз увидеть Олесю и посмотреть, как она будет, усмехаясь, накручивать на палец темный локон. Он улыбнулся и сорвал еще одну травинку. Хорошо!
Солнце припекало почти по-летнему, и от намокшей за ночь земли и травы поднимался пар. Комарова наклонилась, поднесла руку к земле, и тонкие, прозрачные усики пара, как живые, потекли между пальцами. Навстречу шло уже довольно много народу – кто на рынок, кто на станцию, кто просто так, «свою дурость людям показать», как говорила бабка Марья. Куда-то топала своим солдатским шагом тетка Нина.
– Теть Нина! – зачем-то окликнула ее Комарова. – Здравствуйте!
Нинка остановилась, оглядела Комарову с головы до ног и буркнула:
– Откуда чешешь, егоза?
– На станции расписание электричек смотрела, – соврала Комарова первое, что пришло в голову. – Сколько сейчас времени, не знаете?
– Одиннадцатый час. И на кой тебе расписание?
И всего только одиннадцатый час – можно было еще полчаса гулять по сортировке, и Максим бы рассказал про всякие другие вагоны, и как они устроены, и как их нагружают зерном или лесом, а некоторые возят живых коров и лошадей – длинные платформы с высокими бортами, пахнет от них лошадиным и коровьим навозом и перепревшей травой.
– Ну? – пристала Нинка. – На кой тебе расписание? Куда собралась?
Комарова попятилась. Нинка буровила ее взглядом. Дернул же черт у нее время спросить!
Нинка тем временем углядела среди идущих в сторону станции Алевтину Степанову.
– Алевтина, ты это куда?! – крикнула ей Нинка. – Подойди-ка!
Алевтина подошла ближе, держа перед собой обеими руками большую клетчатую полиэтиленовую сумку. Комарова Алевтину не очень любила: у той всегда был какой-то затравленный вид и глаза такие, будто она сейчас расплачется.
– На рынок иду…
– А наша егоза собралась куда-то, на станцию бегала, расписание электричек смотрела. – Нинка не глядя ухватила Комарову за плечо и сгребла пятерней рукав ее платья.
– Куда же это ты собралась, Катя? – наклонившись к Комаровой и заглядывая ей в лицо влажными коровьими глазами, спросила Алевтина. – А родители как же? А маленькие? Кто останется дома за старшую?
На месте ее Алексея любой бы от такой сбежал. Когда он с мужиками сидел на старом мосту – это было любимое место всех поселковых посиделок, и занять его старались еще днем, чтобы не перебила другая компания, – Алевтина притаскивалась, вставала как-нибудь поодаль, но на виду, склоняла набок повязанную платком голову, складывала на груди руки и устремляла на мужа укоризненный взгляд коровьих глаз. Алексей отворачивался, пытался как ни в чем не бывало разговаривать разговоры, но через некоторое время сдавался, виновато прощался с собутыльниками и перся вслед за Алевтиной домой.
Комарова молчала, опустив голову. Нинка тряхнула ее за плечо:
– А им все равно. Они только о себе думают. Видишь, молчит, как партизан.
Алевтина покачала головой:
– Так нельзя, Катя. Ты бы о других подумала.
– А они не думают, – повторила Нинка. – Твой много думал, когда в город от тебя сбежал? Ты еще скажи спасибо, что у тебя не семеро по лавкам… Думают они… как же!
– Как там мой Алексей… – плаксиво растягивая слова, завела Алевтина. – Как он там в городе-то…
– Нагуляется и вернется, – грубо оборвала Нинка. – Нашел там себе какую-нибудь вроде нашей Олеськи… клейма на ней негде ставить.
Комарова медленно присела, так что складки ее рукава начали выскальзывать из толстых Нинкиных пальцев.
– Небось лучше, чем ты здесь, – продолжала Нинка. – Небось о тебе-то он там и не вспоминает…
Алевтина вздрогнула и прижала к груди сумку, как будто защищаясь.
Комарова дернулась, едва не упав на колени, вырвалась из Нинкиных рук, вскочила и побежала.
– Куда?! – заорала Нинка. – А ну, стой! Вот я матери скажу, она тебя по жопе выдерет!
Вот привязалась, до всего ей дело, понесет теперь по всему поселку. Комарова, отбежав на достаточное расстояние, свернула на безлюдную боковую улицу и перешла на быстрый шаг, хотя Нинка и не думала за ней гнаться, а Алевтина так вообще стояла как столб, вытаращив глаза и вцепившись в свою сумку. Руки у нее были большие, как Нинкины, только пальцы потоньше, а суставы похожи на деревянные шарики, перекатывающиеся под кожей, и кожа красная и потрескавшаяся. Комарова вытянула перед собой руку и помахала ею в воздухе. У нее тыльная сторона ладони тоже была красная и сухая, вся в паутинке мелких трещин. Она попыталась вспомнить, какие руки у Ленки, но вспоминалось только, что очень грязные.
– Эй, Комарица!
Комарова вздрогнула, но заставила себя не поворачивать головы.
– Далеко собралась? Стой, поговорить нужно…
Если он один, можно попробовать отбиться и убежать. Но он один не ходит. Комарова сжала кулаки, так что ногти больно впились в ладони. Был бы у них старший брат вроде Максима, он бы им показал, а у них не братья, а смех один: Ваня и Саня, не успеваешь им сопли вытирать.
– Сестра твоя где?
Босой забежал вперед и оказался прямо перед ней. Комарова остановилась. Подошли еще трое: семринский парень с разбитой губой – кровь он смыл, но губа все равно оставалась распухшей и синей, Стас и Косой, прозванный так за то, что правый глаз у него не открывался и вместо него была узкая щелочка.
– Ну? – Босой улыбнулся, показав два отсутствующих зуба, ухватил Комарову пальцами за подбородок. Она дернулась, но он держал крепко. – Ну, ну, что дергаешься, Комарица?
Комарова что-то замычала сквозь плотно сжатые губы.
– Не нравится ей! – ухмыльнулся семринский парень. Голос у него был хриплый, как будто он только и делал, что непрестанно курил.
– Не нравится, – согласился Босой. – Тебя не учили, Комарица, что за все дела в жизни нужно отвечать?
Комарова сильно мотнула головой и отступила, но Босой шагнул к ней, больно ткнул жестким пальцем в солнечное сплетение, так что она закашлялась.
– Давай-давай, откашляешься и скажешь.
– Слушай, Босой…
– Ну, что? Не учили?
Он еще раз ткнул ее пальцем, она было отступила, но Косой, стоявший позади, ухватил ее за плечи и подтолкнул вперед.
– А к старшим тебя не учили обращаться по имени-отчеству? Я для тебя Антон Борисович, поняла?
– Поняла, – тихо сказала Комарова.
– Громче повтори.
– Поняла!
– Точно поняла?
Комарова промолчала.
– Ну, Комарица? – Он угрюмо смотрел на нее, сжав зубы так, что на щеках вздулась пара желваков, и тоже молчал. Как-то раз, когда отец сильно избил его, он в отместку поджег дом: натащил в подпол соломы и подпалил, но солома оказалась сырая и вместо того, чтобы дать пламя, дала только густой сизый дым, который повалил из всех щелей. Дым заметили, подпол вскрыли и неудавшийся костер залили водой, но после этого в течение несколько месяцев отец Антона пальцем не трогал. – Отвечать будешь, Комарица?
Комарова сглотнула густую слюну. Во рту стоял металлический привкус, какой бывает, когда случайно прикусишь губу.
– Ленку только не трогайте, она ничего не делала. Это все я.
– Разберемся.
Он протянул к ней руку и сильно дернул за рукав. Комарова опять попятилась, но Косой толкнул ее сзади в плечо. Вообще-то его звали Витей, с Антоном они дружили с самого детства и были не разлей вода, один только раз подрались, когда Косой вдруг заявил, что хочет уехать из поселка и зацепиться где-нибудь, и Антон вместо ответа дал ему кулаком в зубы, а Косой ответил, и они, сцепившись, упали в дорожную пыль. Чем-то они были даже внешне схожи, и многие принимали их за братьев.
– Слушай, Тоха, да оставь ты ее, – вдруг подал голос Стас. – Что с нее взять? Ну…
Антон в ответ раздраженно дернул плечом, и Стас замолчал.
– Ну, Комарица?
– Да что тебе от меня нужно?! – Комарова хотела сказать твердо, но голос сорвался и вышло жалобно.
– А ты сама догадайся, раз такая умная! – Он снова ухмыльнулся во весь рот, не спуская с нее пристального взгляда.
– Бить будете? Ну, давай уже, бей! – Комарова вздернула подбородок и раскинула руки в стороны. – Давай, бей уже! Только давай по-быстрому, мне еще работать сегодня, меня Олеся Иванна ждет!
– Успеешь! – Босой вдруг наклонился вперед, ухватил ее за подол и рывком задрал юбку, так что перед глазами у Комаровой замелькали выцветшие голубенькие цветочки.
Косой засмеялся, и она почувствовала, что и он тоже схватил ее сзади за подол и дернул вверх. Она, ничего не видя, отскочила в сторону, прежде чем Антон и Косой успели понять, в чем дело, ударила не глядя кулаком, ни в кого не попала, споткнулась, упала на землю и поползла. Косой бросился за ней, схватил обеими руками за ноги и рванул на себя, так что она проехалась локтями и коленями по камням.
– Стас! Стас, помоги! – закричала Комарова, пытаясь одновременно вырваться и вернуть на место задранную юбку. – Помоги!
Стас вместе с семринским парнем стояли в стороне. Семринский курил, скривив разбитую губу. Стас жевал стебелек тимофеевки, ее пушистый колосок мотался из стороны в сторону как будто сам по себе. Косой, подтащив Комарову к себе, отпустил ее на секунду, потом схватил одной рукой за волосы, а другой – за плечо и рванул вверх, так что Комарова опять оказалась лицом к лицу с Антоном. Он послюнил большой палец, провел им по ее щеке снизу вверх:
– Это ты зря. Себе же хуже делаешь.
– Тебе что? – хрипло и невпопад спросила Комарова. Металлический привкус во рту сделался сильнее, и хотелось сплюнуть.
– Думала, если здесь живешь, тебе ничего не будет?
Комарова молчала.
– Ну?
– Ничего я не думала.
– А вот зря. Надо было думать.
Он снова дернул ее за рукав, потом больно ущипнул за плечо.
– Помогите! – вдруг неожиданно для самой себя заорала Комарова на всю улицу. – Помогите, насилуют! Убивают!
Босой и его компания на мгновение растерялись – Комарова увидела, как из открытого рта Стаса выпала травинка тимофеевки. В одном из домов на противоположной стороне улицы распахнулось окно, высунулась незнакомая тетка с повязанной косынкой головой.
– Помогите, тетенька! – еще громче закричала Комарова. – Убивают!
– Вы чем тут занимаетесь?! – крикнула тетка. – Вы чьи?!
– Помогите, тетенька, помогите! – не унималась Комарова.
Вдоль улицы пооткрывались еще окна.
– Да закрой ты рот, тварь! – Антон размахнулся и наотмашь съездил Комаровой по голове.
В ушах зазвенело, и сквозь этот звон послышался голос тетки в косынке:
– Я тебя знаю, ты Макаровых! Я на тебя в милицию заявлю! Ты что творишь?!
– Тоха, да оставь ты ее, себе дороже…
– Отвали!
– Да оставь… ну ее…
Улица качнулась и встала на место. Кто-то позади крикнул что-то сердитое и неразборчивое, тетка высунулась из окна чуть не до пояса, ответила кричавшему:
– Макаровых, Макаровых он, и этого я знаю, они всегда вместе шляются!
– Тоха, пошли. – Стас подошел, нерешительно хлопнул Босого по плечу. – Нечего тут…
Босой посмотрел на Комарову в упор:
– Да идем уже, Тоха…
Босой дернул плечом, сунул руки глубоко в карманы штанов, отвернулся и зашагал прочь, низко опустив голову. Остальные потянулись за ним.
– Иди-иди! – крикнула тетка в окне. – И чтоб я тебя с твоей кодлой больше здесь не видела! Увижу – в милицию сдам!
– Я тебе все окна перебью, шалава старая! – бросил, не оборачиваясь, Босой.
– Что ты сказал?! – Круглое лицо тетки пошло красными пятнами. – Я тебе покажу шалаву! Хайло свое поганое закрой! Нет, вы на него посмотрите!
Комарова наклонилась, расправила смятую юбку. Бабка померла и так и не рассказала, что с такими, как Босой и его лоботрясы, делала партия. Может быть, наказывала при всех? Она представила, как с Босого при большом стечении народа двое мужиков в буденовках снимают штаны и бьют по тощим ногам хворостиной, а он пикнуть не смеет, потому что, когда была партия, был порядок. Так говорила бабка, заставляя Комарову помогать полоть грядки или сматывать в клубки шерсть для вязания – этого Комарова особенно не любила, потому что нужно было стоять неподвижно, держа перед собой руки с растопыренными пальцами, на которые бабка набрасывала здоровенный рыхлый моток шерсти и делала потом из этого мотка тугой кругленький клубок. Комарова переступала с ноги на ногу, шмыгала носом, вертелась, уставала держать в напряжении руки, и они опускались сами собой, так что шерсть едва не падала на пол, и тогда бабка шикала на нее и говорила, что, когда была партия, был порядок, а теперь никакого порядка нет, пять минут постоять спокойно не может, стой, не вертись, мотовило...
– Ну, что ты там? – окликнула ее тетка, все еще торчавшая в окне: не случится ли чего еще интересного. – Сильно они тебя?
– Да ничего так.
– Ты зайди хоть во двор, под колонкой обмойся, – пригласила тетка.
Комарова перешла улицу, толкнула калитку. За забором залаяла собака.
– Ты иди, не бойся, Шарик добрый, не укусит.
– Я и не боюсь.
– Ну, смелая какая! А они тебя за что? – поинтересовалась тетка, пока Комарова возилась с колонкой: чтобы полилась вода, пришлось повиснуть на рычаге всем весом.
– Да так. – Комарова поморщилась: вода была ледяной и обжигала кожу.
Тетка понимающе вздохнула:
– В нашей молодости парни такими не были, это сейчас распустились…
Комарова сосредоточенно, до боли стиснув зубы, обмывала ободранные колени. До магазина еще идти и идти – Олеся Иванна будет ругаться.
Солнце прошло половину неба и повисло над железной дорогой. Когда Ленка была совсем мелкая, она спрашивала, куда девается солнце ночью, и Комарова сказала, что вечером солнце грузят в товарный вагон и оно всю ночь едет на поезде до того самого места за лесом, где его выгружают, и оно снова поднимается на небо. Следующим вечером Ленка побежала на станцию смотреть, как будут грузить солнце, Комарова догнала ее на полпути, надрала уши и вернула домой. Через несколько дней Ленка снова убежала и бегала так несколько раз, пока не попалась матери, которая отлупила ее и заперла на целый день.
Покупателей в магазине не было, и Олеся Иванна стояла, опершись локтями о прилавок, и, рассматривая свое лицо в маленькое косметическое зеркальце, подкрашивала губы. Увидев Комарову, она по обыкновению усмехнулась:
– Ну что, Катя, посмотрела на поезд?
– Здрасьте, Олеся Иванна. – Комарова смутилась, что опоздала, и опустила глаза. – Посмотрела.
– И как? – Олеся Иванна докрасила губы, погляделась еще раз в зеркальце, сложила его и сунула под прилавок.
– Товарняк как товарняк. – Комарова пожала плечами. – Длинный только очень.
– Да что ты говоришь… А что еще видела?
Комарова принялась перечислять, загибая пальцы, что ей показывал на станции Максим. Олеся Иванна сначала заскучала, потом перебила:
– А было-то что, Кать?
Комарова уставилась на Олесю Иванну. Та как будто равнодушно накручивала на палец темную прядь.
– Ну-у?
– А чего было-то, Олесь Иванна? – пробормотала Комарова.
– Рассказывать не хочешь? – Олеся Иванна усмехнулась. – Думаешь, я тебя матери выдам? Да не бойся, не выдам. Сама же отпустила-то…
– А чего было-то? – тупо повторила Комарова.
– Да уж чего-то было, – передразнила Олеся Иванна. – Это ты мне расскажи, чего было, времени уже второй час. Что, и не поцеловались, что ли?
Комарова схватилась за щеки, потому что все лицо ее стало вдруг горячим, как будто его ошпарили кипятком.
– Ой, раскраснелась-то как! – засмеялась Олеся Иванна и добавила: – Ну так что, целовалась со своим Максимом?
Скрипнула дверь, и Комарова быстро обежала прилавок и встала рядом с Олесей Иванной. В магазин вошла соседка Комаровых тетя Саша. Она вела за руку внука, которого городские дети сдавали ей на лето; внук был совсем мелкий, он покрутил стриженой головой, увидел на полке конфеты и показал на них пухлой ручонкой. Тетя Саша шлепнула его по руке и для верности – по попе.
– Митя, не показывай пальцем, сколько раз повторять!
Увидев за прилавком Комарову, тетя Саша поморщилась. Комаровых она не любила: считала, что из-за них приличные люди не хотят снимать у нее летнюю веранду.
– Масла постного и яиц десяток, – сказала тетя Саша, подойдя ближе, потом подумала немного и добавила: – Давай два, если наши, оредежские…
– Наши, наши, – закивала Олеся. – Сегодня утром только привезли.
– Ну, давай тогда…
Митя снова потянулся к конфетам и что-то залопотал. Тетя Саша шикнула на него:
– Не крутись, кому сказала… Что за ребенок!
Олеся Иванна взяла из открытой коробки карамельку и протянула Мите. Он радостно ухватил конфету обеими ручонками.
– Ну, что надо сказать тете?
Митя таращился на Олесю Иванну восхищенными глазами и ничего не говорил.
– Вот, сдают каждое лето, – пожаловалась тетя Саша. – Мучаюсь с ним, они его в городе разбаловали.
– Ми-итька! – Олеся Иванна помахала Мите рукой, он заулыбался, потом вдруг застеснялся, покраснел и спрятался за тети-Сашину юбку. Олеся Иванна засмеялась. – Настоящий мужчина растет!
– Да уж, мужчина… – Тетя Саша отобрала у Мити юбку, которую он комкал в пальцах и уже потащил в рот. – Три года, а он кашу какой называет. Да не крутись ты!
Комарова прыснула, и тетя Саша бросила на нее раздраженный взгляд:
– Нарожают детей, потом сами не знают, куда их девать.
И откуда такие берутся? Ни рожи ни кожи, по морде как трактор проехал, и ничего, мужа в свое время нашла, а теперь сидит, от городских каждый месяц деньги получает и дачу сдает, внук ей, видишь ли, мешает…
– Что-нибудь еще брать будете, Александра Ивановна? – Олеся по привычке оперлась о прилавок и подалась вперед, так что в вырезе кофты стала видна глубокая ложбинка между грудями.
– К чаю бы чего-нибудь, – сказала тетя Саша задумчиво. – У меня дачники все сожрали. Каждые полчаса чай пьют.
Ободранная кожа на руках и ногах саднила, и хотелось еще раз облиться ледяной водой. Комарова осторожно почесала локоть и поморщилась. Тетя Саша снова на нее зыркнула, как будто это Комарова была виновата, что дачники всё сожрали.
– А вы возьмите пряников. – Олеся Иванна еще сильнее наклонилась вперед и подмигнула Мите – тот снова спрятался за бабушкину юбку. – Свежие, утром привезли.
– Точно свежие? – засомневалась тетя Саша.
Вот коза, свежие ей, не свежие… чтоб ты подавилась.
– Да точно, говорю же, сегодня утром только привезли. – Олеся Иванна повернулась к полкам, приоткрыла завернутый пакет, вытащила пряник, надкусила и показала тете Саше.
– А не суховатые?
– Да это же пряник, он и должен быть немного суховатым, – не выдержала Олеся Иванна. – Это же не сдоба. Ну что я вам врать, что ли, буду?
– Ладно, ладно, не сердись, – примирительно сказала тетя Саша, – спросить уже нельзя, рассердилась… Насыпь полкило твоих пряников.
– Может, хотя бы грамм семьсот возьмете?
Тетя Саша задумалась. Митя снова скомкал одну из складок ее юбки.
– Разберут, – добавила Олеся Иванна. – Пряники всегда быстро разбирают.
– Ну… куда мне столько…
– Вы же сами сказали – дачники…
– Ладно, давай семьсот.
Когда тетя Саша ушла (Олеся Иванна взвесила ей вместо семисот граммов восемьсот пятьдесят и уговорила взять), Олеся Иванна вспомнила о Комаровой:
– Ну, Катя?..
Вот ведь прилипчивая, хуже Ленки.
– Да не было ничего, Олесь Иванна, честное слово!
Олеся Иванна подошла к Комаровой, пытавшейся спрятаться между полками, чуть не вплотную. От нее сильно пахло розовыми духами и чуть-чуть антистатиком, которым она опрыскивала свои капроновые колготки.
– Не было, значит?
– Да вот вам крест!
Комарова в подтверждение своих слов схватилась за шнурок, на котором висел Татьянин крестик.
– А почему тогда опоздала? Обещала к двенадцати…
– Да я по пути Алевтину встретила…
– Это Степанову, что ли?
– Ее… вы же знаете, от нее быстро не отвяжешься.
Олеся Иванна выпрямилась, постучала каблуком по полу:
– Это от которой мужик-то ее сбежал?..
Комарова кивнула.
– Я бы на месте ее Алексея тоже от нее сбежала, – сказала Олеся Иванна. – Совсем мужика задушила. Ты, Катя, запомни, мужики соплей не любят, бабьими слезами их к себе не привяжешь.
– А чем привяжешь? – быстрее, чем успела подумать, спросила Комарова.
Олеся Иванна задумчиво покрутила завитую прядь:
– Ну… всякие есть способы.
Говорили, будто в Олесе Иванне течет цыганская кровь и ее отец на самом деле ей не родной, а настоящим ее отцом был какой-то заезжий цыган из Михайловки. Цыган в поселке не любили: считалось, что они воруют сено. Летом цыганские телеги, запряженные пегими лошадками, ездили туда-обратно через поселок. Один раз телега остановилась у комаровского дома и цыган, заросший до самых глаз черной курчавой бородой, крикнул Комаровой, стиравшей во дворе белье, чтобы вынесла его лошади воды из колодца. Комарова набрала воды, вытащила полное ведро из калитки, цыган подскочил, взял его одной рукой и поставил перед лошадью. Лошадь переступила с ноги на ногу, опустила голову и стала пить, прядая ушами, фыркая и расплескивая воду. А когда напилась, Комарова едва успела забрать ведро с дороги, потому что цыган хлестнул лошадь плеткой по заду, коротко свистнул, и та поволокла телегу дальше.
– А какие есть способы?
Олеся Иванна внимательно посмотрела на Комарову и усмехнулась:
– Да кто их знает, Катя…
– Ну, Олеся Иванна, вы же знаете.
– Это что, наши деревенские дуры тебе наговорили?
Еще однажды старая цыганка ухватила Ленку за руку и стала водить по ее ладони длинным желтым ногтем. Ленка от страха таращила глаза, но стояла смирно, а когда цыганка отпустила ее, бросилась бежать, так и не узнав, что ждет ее в будущем.
– Ты их больше слушай… – подумав немного, сказала Олеся Иванна. – Клавку особенно…
– Это которая в вас сахаром? – вырвалось у Комаровой.
Стало так тихо, что слышно было, как муха бьется в оконное стекло, перепутав его с пустотой, потом Олеся Иванна отвернулась и стала молча поправлять ценники; несколько штук, замасленных и истрепавшихся, она открепила и сделала из кусочков картона новые. Комарова, посмотрев за ней некоторое время, принесла со склада веник с пластмассовым совком, у которого была почти до основания отломана ручка, подмела пол, потом открыла дверь и вытряхнула совок на улицу. Ветер подхватил пыль, солому, какие-то тонкие былинки и волоски, распластал все это в воздухе и унес. Комарова постояла на пороге, глядя на висевшее над железной дорогой солнце, на которое наползло небольшое облако, так что можно было смотреть не щурясь. Когда она вернулась, Олеся Иванна переставляла что-то на полках и даже не обернулась. Комарова присела на табуретку в самому углу.
– Ну что, прибралась? – спросила наконец Олеся Иванна.
– Да вроде…
– Ну молодец. – Олеся Иванна обернулась, и Комарова увидела, что рот ее кривится, как будто она собирается заплакать. – Иди, там на складе греча есть и чай. Иди, поешь.
До самого закрытия Олеся Иванна была хмурая, и покупателей было немного; правда, еще двоим она продала по полкило пряников, а одного уговорила на цыпленка, лежавшего в холодильнике под грудой фрикаделек и мороженого в вафельных стаканчиках, – холодильник хоть и был бог знает какого года, но морозил так, что все содержимое его превращалось в однородную ледяную массу. «Разморозите и собаке скормите, ей что… она только рада будет», – пообещала про цыпленка Олеся Иванна, и мужик, засмотревшийся на ее грудь, взял за полцены цыпленка и прибавил к нему несколько пачек «Беломора».
Комарова маялась. Найдя на складе открытую бутыль подсолнечного масла, она намазала саднившие локти и колени: бабка говорила, что подсолнечным маслом хорошо мазать от ожогов, ну если от ожогов, то и на рану пойдет. Потом она вышла через заднюю дверь на улицу и поискала на пустыре за магазином подорожник, но вся трава была запыленная и прибитая к земле колесами Петровой «газели». Олеся Иванна, небось, ждет не дождется, когда он из Суйды вернется. Жена Петра, Оксана, была здоровенная дебелая баба, на голову выше Олеси, а после двух родов стала совсем необъятной. Год назад Петр загулял с их соседкой Марьей, Оксана об этом узнала и пригрозила Марье, что выдерет ей все волосы. Марья, которая в тот момент развешивала во дворе белье, посмеялась, а когда Оксана стала на нее орать, взяла из таза мокрую рубаху, скрутила в жгут, подбежала к забору и хлестнула Оксану наискось по лицу.
Через неделю Оксана поймала Марью у реки, где та полоскала простыни, подошла сзади, вцепилась в волосы и повалила на мостки. Трухлявые доски сначала затрещали, а потом провалились совсем, и обе оказались в воде. Оксана, обеими руками сжав Марьино горло, пыталась ее утопить и утопила бы, если бы не проплывавшие мимо на лодке дачники. Марья долго еще валялась на земле с посиневшей физиономией, хрипя и отплевываясь и хватая сведенными пальцами траву. Простыни ее все уплыли вниз по реке. Оксану дачники силой увели домой, потому что она пыталась пнуть соперницу в живот, заперли в сарае и караулили до прихода Петра.
Комарова плюнула в пыль и, присев на корточки, посмотрела, как пыль, намокая, скатывается в коричневые шарики, которые потом медленно оседают в землю. Петр жену наказал, но не сильно, и с Марьей больше не связывался, а потом Марья и Оксана даже как-то помирились и смеялись над тем, как Оксана пыталась Марью утопить. «И за такое говно, – вздыхала Оксана, имея в виду Петра, – пошла бы в тюрьму и двоих детей бы оставила сиротами».
Закрывая магазин, Олеся Иванна сказала, что завтра санитарный день и Комарова может не приходить.
– Чего не приходить-то? Может, помогла бы чем?
– Да ладно, помогла уже. Вон, весь пол вымела.
К вороту кофты Олеси Иванны была приколота красная пластмассовая брошь в виде розы. В ее лепестки было вставлено несколько маленьких стеклянных камешков. Комарова стала считать их, но из-за того, что они были видны, только когда на них падал свет лампы, сбилась со счета.
– Олеся Иванна…
– Что тебе еще?
– Дура эта Клавка! – выпалила Комарова. – Рожа как у жабы! Кто ее слушать станет?
Подкрашенные брови Олеси Иванны поползли вверх.
– Ты что это вдруг?
– Никто ее не слушает! – выкрикнула Комарова, почувствовав, что на глаза наворачиваются слезы. – Кому она вообще сдалась?! Никому она не сдалась!
Олеся Иванна наконец опомнилась, положила руки ей на плечи и слегка встряхнула:
– Иди-ка ты домой. И гуляй завтра. В пятницу придешь. И не опаздывай.
К вечеру воздух снова стал прохладным и небо затянули низкие осенние тучи. Навстречу Комаровой попалось небольшое стадо, возвращавшееся с поля: впереди шло несколько коров, за ними семенили козы, а за козами тянулось облако не наевшихся за лето слепней. Одна из коров встала посреди дороги и уставилась на Комарову влажными глазами. К морде ее прилепилось десятка два крупных слепней. Комарова подошла, подняла руку и погладила бархатный коровий нос. Корова наклонила громадную голову, и Комарова осторожно убрала слепней.
– Ну, стой смирно, Машка, – говорила Комарова, хотя корова и так стояла неподвижно, как будто понимала, что ей делают лучше, и только время от времени вздрагивала всей шкурой и взмахивала пятнистым хвостом, к кисточке которого прицепился целый ком репьев. – Видишь, сколько ты их нахватала… стой теперь, терпи, вот.
Один из слепней сел Комаровой на руку и успел укусить, прежде чем она шлепнула по нему ладонью и щелчком сбросила на землю.
Чтобы опять не налететь на Босого и его компанию, Комарова пошла их с Ленкой тайными ходами между заборами; кое-где заборы соседних дворов и огородов подходили друг к другу почти вплотную, так что приходилось приседать и протискиваться боком. Ноги покусывала крапива. Один раз на Комарову с лаем бросилась собака – прыгнула с разбегу на ограду, и кожаный, весь в мелких трещинах нос ее прижался к проволочным ячейкам. Комарова шарахнулась в сторону и больно ударилась плечом о доски противоположного забора, но, увидев, что собаке ее не достать, послюнила палец, осторожно дотронулась до сухого собачьего носа и сказала срывающимся шепотом:
– Ну, ты чего?.. Тихо, Дружок, тихо…
Собака продолжала заливаться лаем.
– Ну, Шарик, ну… тихо ты, тихо, чего ты…
Собака не успокаивалась, потом кто-то окрикнул ее, и Комарова, встав на четвереньки и не обращая внимания на лезущую в лицо крапиву, поползла дальше. Бабка говорила, когда людям было нечего есть, они из крапивы варили себе щи и что, мол, щи были очень вкусные, не хуже свекольника или щавелевого супа. Однажды в конце мая Комарова нарвала целую корзину молодой крапивы, притащила бабке и попросила сварить щи, а потом боялась их пробовать, потому что думала, что щи будут жечься, но они, наоборот, оказались пресные, а крапива на вкус – трава травой. Взяв в рот одну ложку и немного пожевав разваренные листья, Комарова сплюнула их обратно в тарелку, и бабка хлестнула ее по щеке тряпкой, которой протирала плиту.
Дома было тихо: мелкие бегали где-то на улице или спали. Комарова медленно приоткрыла дверь, чтобы та не заскрипела, сняла туфли и, держа их в руках, прокралась в комнату. Ленка была уже дома, сидела за столом, поджав ноги, и что-то малевала цветными карандашами в тетрадке. Когда Комарова вошла, Ленка вздрогнула, быстро обернулась, но, увидев сестру, выдохнула:
– Я думала, батя лезет…
– А чего, дома он?
– А не знаю.
– Давно ты пришла?
Комарова поставила туфли к стене, подошла к буржуйке, стоявшей посреди комнаты, открыла зольник, взяла кочергу и принялась выгребать золу в старую эмалированную кастрюлю.
– Чё, топить будешь?
– Я тебе за твое «чё»…
– Я давно пришла, – пропустив слова Комаровой мимо ушей, сообщила Ленка. – Я как встала, меня тетя Таня накормила котлетами с картошкой и еще надавала котлет на дорогу.
– Понятно.
– Я тебе оставила. – Ленка дернула головой, показывая на бумажный сверток на подоконнике. – Тетя Таня много надавала.
– Понятно, – повторила Комарова, закончив с золой и запихивая в печку поленья. – Спички подай.
Ленка подошла, сунула в ее протянутую руку коробок, и Комарова зачиркала спичками. Когда-то буржуйка была выкрашена серебристой краской, но в детстве Комарова соскребала эту краску ногтями и ела; бабка говорила, это потому, что у нее чего-то не хватало в организме. Та краска, которую Комарова не успела соскрести, со временем сама отстала и осыпалась, и теперь на стенках буржуйки только кое-где виднелись серебристые ошметки и местами ржавчина проела ее насквозь – когда буржуйка топилась, сквозь дырочки было видно пламя.
– Чё, думаешь, ночью холодно будет?
Комарова пожала плечами. Может, и правда похолодает, но ей просто нравилось, когда ночью в буржуйке потрескивали рассыпавшиеся в золу угли.
Ленка помолчала, поерзала на стуле:
– А я не через дверь вошла. Я кустами, а потом лесом обошла и в окно влезла.
– Чего так?
– Бати забоялась. – Ленка хихикнула. – Я же деньги-то…
– Положила бы на место, ничего бы не было. А лучше бы не брала.
– Да ладно, Кать… ну чего ты сразу?
Комарова пошевелила кочергой поленья, которые отсырели и не хотели разгораться. У бабки огонь всегда разгорался сразу: она складывала поленья колодцем, и в колодец наталкивала куски газеты, смятые в шарики, и в щели между поленьями тоже засовывала кусочки газеты, а потом поджигала с нескольких сторон. Комарова обычно делала так же, но в комнате газетные шарики и обрывки закончились, а идти в коридор и брать новые газеты из стопки не хотелось. Она еще раз чиркнула спичкой и чертыхнулась, когда та, зашипев, сразу погасла.
Ленка еще покрутилась на стуле, что-то еще порисовала в своей тетрадке, потом не выдержала и повернулась к Комаровой:
– Катя… Ка-атя…
– Чего тебе?
Ленка вздохнула.
– Ну? Говори уже.
– Да так… ничё.
– Ну если ничё, то и молчи.
– Кать, ну чего ты сердишься?
– Да не сержусь я! – буркнула Комарова.
– Тогда ладно, – сказала Ленка и притихла.
Одно из поленьев наконец загорелось: огонь лизнул сухую чешуйку коры, как бы примериваясь, потом пополз по самому полену. Комарова прикрыла дверцу и стала смотреть через щели в ней, как медленно, а потом все быстрее и быстрее расходится пламя. В дверь поскреблись, Ленка соскочила со стула, пробежала босыми ногами по доскам, открыла, и в комнату проскользнула Дина; увернувшись от Ленкиной руки, она сразу побежала к печке и уселась возле трубы. Комарова снова взяла кочергу и поелозила ею по полу – Дина вздыбила шерсть и зашипела.
– Дура, – сказала Комарова и положила кочергу на место.
Ленка подошла, присела рядом на корточки и тоже стала смотреть на огонь.
– Ты ноги помыла? – спросила Комарова.
– Ну мыла, – нехотя ответила Ленка.
Комарова посмотрела на Ленкины ноги: они правда были чище обычного. Все равно врет.
– Ну а чего… тетя Таня нас всех целиком мыла.
– Это когда было?
Ленка пожала плечами. Волосы ее, обычно растрепанные, были аккуратно причесаны и заплетены в косичку, а на висок Татьяна прицепила ей крабика со стеклянным камешком.
– Котлеты принеси.
– Чё?
– Котлеты…
– А-а! – Ленка быстро вскочила на ноги и через мгновение уже сидела рядом и разворачивала на коленях сверток, в котором лежали четыре большие поджаристые котлеты. Комарова взяла одну, отломила верхушку и, не глядя, бросила Дине, та схватила кусок, коротко встряхнула, как пойманную мышь, и стала жадно есть, урча и время от времени взглядывая на сестер.
– Вот дура, – повторила Комарова.
– Угу, – с набитым ртом подтвердила Ленка. – Сволочь блохастая. На вот тебе еще!
Ленка кинула Дине еще кусок, и Дина тоже сперва его задушила, а потом сожрала. Даже холодные, Татьянины котлеты были ужасно вкусными и сочными. Как там, интересно, вернулся ее Сергий из Куровиц? Комарова чуть не подавилась, сдержав непрошеный смешок, скомкала засаленную бумагу, приоткрыла дверцу печки и бросила бумагу в огонь.
– Ты чего?
– Да ничего, сказала же.
– Ну ничего и ничего, – вздохнула Ленка и хихикнула.
В кровать они легли, когда огонь в печи еще горел и бросал красноватые отсветы на пол и стены. Дина улеглась у трубы, свернувшись калачиком, ее полосатый бок мерно поднимался и опускался, но один желтый глаз был приоткрыт и следил за сестрами, пока они не накрылись одеялами и не перестали ворочаться. Кошку, когда она была еще котенком, притащила в дом Ленка – пока тащила, та изодрала ей все руки, а едва отпущенная на свободу бросилась под крыльцо и отсиживалась там две недели. Со временем Дина нисколько не приручилась, но переловила всех до одной мышей в доме. Лягушек в огороде она тоже давила – иногда, услышав высокий лягушачий писк, кто-нибудь из мелких бежал в заросли спасать лягушку, получал от Дины пару глубоких царапин и с ревом возвращался. Комарова вздохнула и перевернулась на другой бок.
– Ка-ать… Ка-атя…
– Ну чего тебе?
Ленка помолчала, скрипнула матрацем.
– Ну?
– Не скажу. Ты ругаться будешь.
Комарова не ответила, приподнялась на локте и посмотрела в темноту. Ленки видно не было, ее кровати тоже. На станции застучала поздняя электричка. Комарова прислушалась. Нет, не электричка, товарняк: звук глухой и тяжелый. Повез в город цистерны с мазутом и платформы с сосновым лесом. Интересно, что Максим сейчас делает…
– Ка-ать, – не выдержала Ленка.
– Ну чего?
– Сказать тебе?
– Ну, скажи.
Товарняк уполз за поворот, и в тишине был слышен его ровный затихающий гул. За окном молчал лес, ночь была темная и безветренная, и где-то в небе собиралась поздняя осенняя гроза.
– А ты ругаться не будешь?
Комарова снова не ответила. Ленка еще поскрипела матрацем, спустила с кровати ноги, поискала тапки, не нашла, пробежала через комнату босиком и щелкнула выключателем, потом вернулась к своей кровати:
– Сюда иди.
Комарова нехотя вылезла из-под одеяла, подошла к Ленке и села рядом.
– Щас, погоди. – Ленка отвернулась, пошарила под подушкой, достала какую-то розовую тряпочку и помахала у Комаровой перед носом.
– Что это? – тупо спросила Комарова.
Ленка развернула тряпочку:
– Трусы!
– Что? Какие еще трусы? – удивилась Комарова (у Ленки отродясь таких не было).
– Светкины! – сообщила Ленка. – Ее тетка белье развешивала…
Комарова сама не поняла, как одна ее рука отняла у Ленки розовые трусы, а другая cхватила ее за ухо. Ленка собралась было заорать, но вовремя спохватилась, зажмурилась и издала только сдавленный стон. Комарова отпустила ее ухо и хлестнула по физиономии ворованными трусами.
– Совсем сдурела?!
– Да чё такое?
– Тебе мало от бати влетело?
– Ты сама говорила!
– Что я тебе говорила?
– Что у меня трусов приличных нет…
В печке сильно затрещало, и несколько искр вылетело через решетку и рассыпалось по полу. Ленка вздрогнула.
– Ну?
– Да чё ей… она и не заметит.
Светка и правда скорее всего не заметит, а если заметит, решит, что тетка упустила их, когда полоскала белье. Комаровы так сами несколько раз упускали батины носки, правда, делали это специально, а мать потом заметила, что носков не хватает, и, как говорила бабка, дала им звону. Ну так-то ведь – носки, и, если бы они потеряли всего одну пару, может, тоже никто бы ничего не заметил… Комарова поколебалась немного и сунула Ленке в руку смятые Светкины трусы.
– Ладно, завтра верну, – буркнула Ленка.
Комарова махнула рукой, слезла с ее кровати, выключила свет и улеглась, не накрываясь одеялом: в комнате было душно.
– Ка-ать… Так чего, не возвращать?..
– Иди ты…
Она закрыла глаза. Где-то вдалеке, может быть, на том берегу, перелаивались собаки – долго, с перерывами, как будто действительно о чем-то разговаривали. Комарова вздохнула и перевернулась на другой бок, лицом к стене. Ленка уже уснула и тихо посапывала – с нее всё как с гуся вода. Комарова представила, как она подкралась к Светкиной калитке, тихонько приоткрыла ее и стала следить за тетей Зиной, развешивавшей на веревках белье. Тетка у Светки была не очень старая, но какая-то больная, очень толстая и с трудом передвигала отекшие ноги. Ленка, небось, вся извертелась у калитки, пока дождалась, когда тетя Зина закинет на веревки последнюю пару носков, вытрет лоб тыльной стороной ладони, медленно наклонится за пустым тазом, вытряхнет из него натекшую с белья воду и побредет в дом. Комарова уснула, и Ленка продолжила ей сниться: она проскользнула в калитку, на четвереньках проползла между клумбами с пионами, которые Светкина тетка очень любила и высаживала их в августе и в начале сентября, так что до поздней осени весь двор утопал в красных и розовых цветах. Добравшись до ближайшего столба, на котором были растянуты веревки, Ленка выпрямилась и, одной рукой держась за столб, высоко подпрыгнула и сорвала кружевные трусы. Веревки заходили ходуном, белье посыпалось с них, дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила тетя Зина.
– Ты что же это делаешь?! – закричала она, и лицо ее стало красным, как пион.
Ленка прижала краденые трусы обеими руками к груди и бросилась наутек. Светкина тетка с неожиданной прытью спрыгнула с крыльца и вприпрыжку помчалась за ней прямо по клумбам. Ленка выскочила на улицу, а тетка все гналась за ней, что-то выкрикивая и требуя остановиться, но Ленка мотала головой и ни в какую не останавливалась. Они добежали до самой станции и побежали по путям в сторону города – Комарова видела, что Ленка выбивается из сил, и ей захотелось крикнуть сестре что-нибудь ободряющее, она закричала что-то, но Ленка как будто не слышала и начала спотыкаться о шпалы, а Светкина тетка ее догоняла и уже протянула руку, чтобы схватить за белесую прядь. Комаровой стало так страшно, что она во сне подскочила на кровати и проснулась. Было тихо, только в печке еще потрескивало, но огонь уже погас, и комната погрузилась в темноту.
– Ленка… – шепотом позвала Комарова.
Ленка не ответила.
– Спишь там? – прошептала Комарова. – Ну, спи…
Она легла на спину и прислушалась: в небе, где-то далеко за Оредежью, ворочался гром – гроза, видимо, собиралась пройти стороной; в доме раздавались тихие скрипы, как будто кто-то маленький и невидимый ходил в коридоре по половицам. Под обоями скреблось, бабка говорила, это жуки-точильщики, которые потихоньку точат дерево и превращают стены старых домов в труху. Иногда бабка ругала батю, что он не занимается домом и дом скоро рухнет, а батя отвечал, что он не виноват, он один в семье мужик, а от баб никакой помощи. Комарова крепко зажмурила глаза, потом открыла и увидела плывущие в темноте радужные точки и ниточки. Ленка застонала во сне. Комарова едва слышно прошептала: «Святой Николай Чудотворец, пожалуйста, я тебя очень прошу, защити Ленку, она не специально у Светки…» Тут Комарова запнулась, потому что неудобно было сказать Святому Николаю о том, что наделала Ленка. Она представила себе отца Сергия, который несколько раз учил ее правильно молиться, но Комаровой было не удержать в памяти произносимых Сергием слов: «всехвальный», «всечестивый», «звезда осиявающая» и прочего в этом роде. Когда она сказала об этом Сергию, он вздохнул и ответил, что Бог, конечно, внемлет всякой молитве, если она исходит из самой глубины души, и не так уж важно, какими именно словами к Нему обращаться. «Отче Николай, – снова начала Комарова, – ты, в общем, и так знаешь, что Ленка безголовая, вразуми ее, ну, или хотя бы сделай как-нибудь, чтобы никто не узнал, потому что тетя Зина даст ей звону, если про трусы узнает…» Ленка снова перевернулась во сне. Матрац у нее был такой старый, что в нескольких местах из него торчали пружины; видимо, во сне Ленка на них натыкалась, но просыпаться ленилась. Мелкие завозились в соседней комнате, из-за стены раздалось хихиканье, потом прекратилось, и снова стали слышны только обычные поскрипывания и шорохи старого дома. «И за этими тоже присмотри, пожалуйста», – добавила Комарова, закрыла глаза и вскоре уснула спокойным сном.
4
Татьяна сидела у окна в кухне, потому что оттуда было лучше всего видно калитку и дорожку к дому, и вышивала бисером лицо Богородицы. Раньше ей никогда не приходило в голову вышивать бисером лицо: лица и руки писал муж, а она вышивала облачение, нимб и фон. Потом Сергий закреплял икону на еловой или сосновой доске и делал красивую резную раму. Иконы получались такими хорошими, что несколько приобрел для своего прихода один городской батюшка, до которого как-то дошли слухи о Татьянином мастерстве. Татьяна продела иголку на изнаночную сторону и внимательно посмотрела на вышивку. Получалось красиво. Она вздохнула и поглядела в окно: погода была безветренная и тихая и на улице не колыхалась ни одна травинка. Дружок спал, выставив из будки лохматую морду; яблоня, росшая у забора, тянула увешанные крупными яблоками ветви к земле; за забором виднелись кусты сирени и спиреи, давным-давно отцветшие, но все еще в густой зеленой листве. Все было залито ровным и мягким светом вечернего солнца. Татьяна еще раз вздохнула, потом зевнула, перекрестила рот и пришила к полотну еще несколько бисеринок. Сергий обещал вернуться еще ко вчерашнему вечеру, но, видимо, какое-то дело или разговор задержали его; Татьяна привыкла, что муж мог на день-два задержаться против обещанного, потому что не умел отказывать людям в просьбах или просто в беседе. Для священника это было хорошим качеством. Татьяна снова зевнула во весь рот. И зачем она только сказала Олесе Иванне, что здесь ей веселее, чем в Заполье?
Она положила вышивку на колени, открыла окно, но неподвижный воздух совсем не освежал. В Заполье она хотя бы не сидела целыми днями одна, а тут что: Сергий поднимается в шесть утра, домой приходит на ночь глядя или вот как сейчас – уехал и жди его, смотри на калитку. Хорошо еще, если в церкви есть какие-нибудь дела… Татьяна почувствовала, что у нее начинает мелко дрожать подбородок, всхлипнула, но сдержалась, чтобы не расплакаться, а то сейчас он как раз вдруг приедет, увидит ее в слезах и расстроится. Поплакать можно и ночью, когда он заснет, хотя Татьяна подозревала, что в такие моменты муж иногда следит за ней, и не раз ей казалось, когда она уходила ночью плакать на кухню, что он стоит за дверью и прислушивается, и ей хотелось, чтобы он вошел, обнял и утешил, но Сергий то ли не решался, то ли на самом деле в это время спал, а Татьяне все только чудилось. Да еще и соседки, которые Татьяну почему-то недолюбливали, заметив, что по ночам у нее в окне часто горит свечка, выдумали, будто к Татьяне ходит по ночам черт. Черт – к жене священника! Это же надо такое! У Татьяны снова задрожал подбородок. Да хоть бы и черт – поговорить не с кем, сил никаких нет. На этот раз она не стала сдерживаться, часто-часто заморгала, и крупные слезы закапали прямо на вышивку.
– Прости, Господи!
Ей было досадно, что на днях она разговорилась с Олесей Иванной: Татьяна чувствовала, что не нравится Олесе, а почему не нравится – не понимала, и как будто из-за этого ее к Олесе тянуло, и она ходила в ее магазин на другой берег, хотя и на этом берегу было по крайней мере два магазина, до которых идти ближе. Татьяна промокнула платком слезы, взяла с колен вышивку и с полчаса пришивала светло-розовые бисеринки к лицу Богородицы. Богородица ласково глядела на нее печальными темными глазами. Каково ей было – отдать миру любимое дитя? Татьяна всегда воспринимала Иисуса как ребенка, и, хотя знала, что Спаситель был распят в тридцать три года, ей казалось, что мир замучил и распял именно ребенка. Когда же она поделилась своими мыслями с мужем, Сергий сначала удивился, а потом подумал и сказал, что на самом деле нет никакой разницы, как воспринимать Спасителя – как взрослого человека или как ребенка, потому что все равно для Бога все – Его любимые дети. Вот у Олеси тоже нет детей… у Татьяны закончилась нитка, она завязала с изнанки аккуратный узелок, отмотала от катушки длинную нить и, почти не глядя, продела в игольное ушко. Татьянина мама до сих пор умела продевать нитку в иголку, держа руки за спиной, и в Заполье поражались этому ее умению больше, чем мастерству портнихи и вышивальщицы. Татьяна улыбнулась, подумав о маме, но, снова вспомнив про Олесю, погрустнела. У Олеси и мужа нет…
Несколько раз Татьяна видела, как по вечерам ее провожали мужчины, а один раз Петр при Татьяне зашел в магазин, перегнулся через прилавок и поцеловал Олесю прямо в грудь, белевшую в вырезе кофты. Олеся оттолкнула его:
– Бессовестный какой, все мне измял!
– Что я тебе измял? – удивился Петр. – Будто тебя до меня не мяли!
– Бессовестный! – повторила Олеся, но рот ее по обыкновению усмехался, и глаза были веселые.
Петр потянулся к ней снова, но она со смешном отодвинулась. Повернулась к Татьяне:
– Что брать будешь?
– Творога полкило и килограмм муки.
– Что, не скучно тебе с твоим Сергием? – вдруг спросила Олеся.
Татьяна не нашлась с ответом и потупилась, а Олеся рассмеялась зло и звонко, и Петр, глядя на нее, тоже улыбнулся.
С Сергием они венчались в Сусанино, в церкви Казанской иконы Божией Матери. Было тоже начало осени, и березы вокруг уже начали желтеть, а с неба накрапывал мелкий дождь. Татьяна, стоя перед облаченной в красный мафорий Богородицей, молилась о том, чтобы Бог послал им детей – чем больше, тем лучше, но она будет счастлива и одному ребеночку, хоть мальчику, хоть девочке – все равно. Но все-таки лучше, чтобы Бог послал двоих или троих, а еще лучше – чтобы их было ровным счетом двенадцать, как апостолов у Спасителя. Она украдкой поглядывала на Сергия: молится ли он о том же? – и ей казалось, что муж молится о том же, и даже совсем такими же словами, а после она никогда не решалась спросить, действительно ли о том же он тогда молился или о чем-то другом.
Спустя несколько дней после венчания, когда Татьяна пошла на реку полоскать белье, она увидела купающихся в заводи ребятишек: нескольких девочек и мальчиков лет по пять-семь. Плавать они, видимо, боялись и возились на мелководье. Вода в заводи была чистая: летом мужики регулярно выгребали из нее тину, только у самого берега колыхались круглые листья кувшинок. Татьяна поставила таз с бельем на землю и подошла к самой кромке воды. Ребятишки, увидев незнакомую женщину, прянули в разные стороны и притихли.
– А где ваши родители? – спросила Татьяна.
Дети не отвечали, только молча переглядывались.
– Вас родители отпустили купаться? – допытывалась Татьяна.
– А вам чего? – ответила наконец белобрысая девочка.
Татьяна растерялась: в Заполье дети так обычно со старшими не разговаривали.
– Так ведь холодно уже… – неуверенно сказала Татьяна, – простудитесь…
– Так нам ничё… – сказала та же девочка. – Мы закаленные.
Стоявшая рядом с ней – видимо, ее сестра – захихикала.
– Нам ничё не будет, тетя. Мы привыкшие.
– Выходите из воды немедленно, – настаивала Татьяна. – Так нельзя.
– А вам чего?
– Вы лучше сами искупнитесь, вода хорошая!
– Скидовайте сарафан и идите в воду…
Дети хихикали и бросали на нее веселые с хитрецой взгляды. Татьяна сняла туфли, подняла подол длинной юбки, заткнула за пояс и вошла в воду. Вода оказалась прохладной, но не ледяной. Со дна поднялись мягкие хлопья ила. Татьяна попыталась ухватить белобрысую девочку, стоявшую ближе всех, но девочка увернулась, отскочила, плеснула ей в лицо водой и засмеялась. Татьяна метнулась за ней, стала ловить, но девочка каждый раз уворачивалась и плескала на нее водой; другие крутились вокруг, плескали друг на друга и на Татьяну, взвизгивали и смеялись.
– Скидовайте сарафан, тетечка!
– Кто же в платье в воду лезет?
– Вы откуда такая, тетечка?
– Ну-ка, перестаньте! Идите все на берег! – Татьяна попыталась придать голосу строгости, но вместо этого сама начала смеяться.
– Ловите меня, тетечка!
– Наташку ловите!
– Вальку ловите, он рохля! Вон позади вас!
– Счас вас обрызгает!
– Валька, берегись!
Татьяна повернулась, и Валька, топнув ногой, поднял со дна целый вихрь ила, после чего зачерпнул ладонями мутную воду и хотел бросить в Татьяну, но не удержал равновесия и сам плюхнулся задом в устроенное им болото.
– Валька тонет! Спасайте его!
– Ой, спасайте, тетечка!
Татьяна стала поднимать Вальку, который то ли от испуга, то ли от обиды ревел, кулачонками размазывая по лицу слезы, и вместо того, чтобы подниматься на ноги, тянул Татьяну на себя. Другие дети окружили ее, стали дергать за широкие рукава, выдернули юбку из-за пояса, и подол упал в воду.
Двенадцать лет прошло с того дня. Татьяна приподняла вышивку так, чтобы на нее лучше падал свет, и придирчиво рассмотрела. Работала она всегда очень медленно и там, где другая вышивальщица потратила бы неделю, тратила месяц, а то и все полтора. Мама, обучая ее мастерству, говорила: «Смотри вышивку с изнанки. Лицо у нее может быть красивое, а посмотришь с изнанки, там все в узлах и хвостиках. Это, значит, плохая вышивка». Мама сама до сих пор вышивает, хотя и стала в последние годы слепнуть, но руки ее хорошо помнят дело, и стежки все равно выходят ровными, один к одному. Чтобы вышивать иконы, Татьяна специально ездила в Сусанино и просила благословения у тамошнего батюшки; батюшка посмотрел ее вышивки, уважительно покачал головой, благословил на богоугодное дело и дал Татьяне в дорогу пирог с капустой, испеченный его попадьей. У сусанинского батюшки было пятеро детей – три девочки и мальчики-близнецы.
Они с Сергием тогда решили, что случай у реки – добрый знак, посланный Господом: будет и у них много детей – и мальчиков, и девочек. Татьяна закусила губу. И так уже, небось, глаза красные и лицо распухло... Ну хоть бы одного ребеночка, девочку. Она бы шила ей такие платьица, что все бы заглядывались. Делала бы ей украшения из бисера. Научила бы рукоделию; хорошо было бы сидеть сейчас с дочкой, чтобы та вышивала на маленьких пяльцах и то и дело спрашивала Татьяну, верно ли она делает, а Татьяна бы отвлекалась от своей работы, брала вышивку дочери, хвалила бы, подправляла, смотрела с изнанки…
– О-о-ой, прости меня, Господи пресвятая Богородица! – завыла Татьяна, закрыв лицо обеими руками и судорожно всхлипывая.
Часам к восьми за окном начало темнеть. Дружок, проснувшийся от надвигающегося ночного холода, несколько раз глухо тявкнул, а потом забрался в конуру. Кусты и яблоневое дерево потонули в сумерках, лампочка над крыльцом едва освещала ближайшую к дому часть двора, и калитку было уже не разглядеть. Хотелось есть, но Татьяна твердо решила дождаться Сергия, чтобы поужинать вместе. Вчера, правда, она ждала его чуть не до полуночи и так и легла спать не евши, только выпила чаю и съела несколько «Коровок». И что в них хорошего? Тянучие, к зубам прилипают… такое только детям может нравиться.
Она еще немного повышивала, потом в глазах началась резь, как будто в них насыпали соли, и она отнесла вышивку в комнату, убрала в шкаф и вернулась на кухню. Она привыкла вставать рано, вместе с мужем. Работа по хозяйству, на которую жаловалось большинство женщин в поселке, давалась легко: от природы она была крепкой, да и в Заполье работы было больше, и была она тяжелее – до единственного колодца приходилось идти за десять дворов. К тому же Сергий всегда, когда выдавалось время, ей помогал и в свободный день мог даже заняться готовкой – правда, после Татьяне приходилось долго прибирать кухню. Во всяком случае, выйдя замуж, Татьяна с удивлением обнаружила, что у нее появился досуг, который было занять нечем, кроме сидения у окна и раздумий. Поселковые сплетни Татьяна не любила, читать с детства не была приучена, без мужа читала только молитвослов и жития святых, но слова Писания часто представлялись ей туманными, и она боялась, что истолкует что-нибудь неправильно и впадет в заблуждение. Мирскую литературу Татьяна не читала вовсе. Как-то раз видела в руках у Олеси Иванны какую-то книжку; Олеся, заметив, что Татьяна заинтересовалась, показала ей, и Татьяна, рассмотрев обложку, чуть не плюнула, а Олеся вдруг начала совать ей эту книжку: мол, почитай, Таня, отвлечешься.
Она сложила на столе руки, положила на них голову и прикрыла глаза. В гостиной за печкой зацвиркал сверчок, да так громко, что казалось, будто он сидит где-то совсем рядом. Татьяна прислушалась и различила два голоса.
– Цвир-цвир, – громко говорил один и добавлял тише: – Цвир-р-цвир-р…
– Цвир-цвир-цвир, – стрекотал в ответ другой, – цвир-цвир-цвир…
Наверное, это их сверчок привел к себе за печку подругу. Летом его не было слышно: в теплое время он жил на улице, а когда ночи становились холоднее, перебирался в дом и сидел за печкой до поздней весны. Татьяна стала слушать разговор сверчков, представляя, что они могли говорить друг другу, и всё у нее выходило, будто их сверчок обещал своей подруге, что они будут жить в любви и согласии и будет у них много деток.
– Цвир-цвир-цвир, – пела в ответ подруга, – цвир-цвир-цвир.
Татьяна не заметила, как задремала, и проснулась оттого, что у калитки остановилась машина.
Петр по пути из Суйды завозил что-то в Куровицы, там встретил Сергия и предложил подвезти. Татьяна, услышав шум мотора его «газели», вскочила, как будто и не спала, и побежала встречать.
– Вы бы зашли хоть на чай-то… у меня яблочный пирог со вчера… – быстро говорила Татьяна Петру, поеживаясь от холода: она не успела набросить на плечи платок. – А то как-то…
– Да ну! – Петр махнул рукой. – Оксанка ругаться будет. И так опоздал.
Сергий с каким-то смущением поглядел на Петра, и Татьяна тоже отчего-то смутилась. Петр был выше Сергия, на голове его во все стороны торчали вихры, а лицо было не то чтобы красивое, но из тех, которые нравятся женщинам.
– А она у вас строгая? – вдруг спросила Татьяна.
– Да уж, строгая! – засмеялся Петр, и в темноте блеснули его крепкие и ровные зубы, желтоватые из-за того, что Петр, как большинство мужиков в поселке, курил «Беломор».
– Ну ты что, Таня… – Сергий положил ей руку на плечо и обратился к Петру: – Спасибо, что подвез, а то не знаю, как бы из этих Куровиц выбирался на ночь глядя.
– Да чего там, ведь соседи, – пожал плечами Петр.
Соседями они не были: Петр жил на другом берегу, недалеко от станции. Татьяна сама бывала в той части поселка всего несколько раз, однажды заблудилась, и откуда-то из проулка на нее выскочила большая собака со вздыбленной от злости шерстью, и высокий женский голос закричал из-за забора: «Нельзя, Шарик! Нельзя! Фу!» Было это год или полтора тому.
– Ну, с Богом! – сказал Сергий, и они с Петром пожали друг другу руки.
Петр повернулся и не торопясь пошел к своей «газели»; уже за калиткой чиркнул спичкой, и в сумерках зажегся оранжевый кругляшок папиросы.
– Что ты со своим чаем, Таня? – проворчал Сергий, идя с Татьяной по дорожке к дому. – Надо было водки ему предложить… Что ж ты у меня такая, а?
– Прости, – тихо сказала Татьяна.
У Петра и Оксаны было двое детей, мальчик и девочка: мальчик был похож на отца, а девочка – на мать. Девочка Татьяне очень нравилась: она часто ходила в церковь и подолгу молилась, беззвучно шевеля пухлыми детскими губами. Тоже дал Бог. Татьяна, поднявшись по ступеням крыльца, взялась за дверную ручку, но вдруг отпустила ее, повернулась к мужу, обняла его и зарыдала, пряча лицо в складках его рясы.
– Таня… Таня, да ты что это… – растерянно бормотал Сергий. Одна рука у него была занята дорожной сумкой и пакетом, куда благодарные жители Куровиц положили пирогов, яиц, всяких овощей с огорода, расплатившись с батюшкой по старинке.
Татьяна ничего не могла сказать, только всхлипывала и комкала в пальцах его одеяние.
– Да Бог с ней, с этой водкой… – Сергий почувствовал, что у него в носу тоже начинает чесаться: один Господь знает, что делать с человеческими слезами! – Таня, да ты что… ну, Таня… Танюша…
За ужином Татьяна ничего не говорила, молча, опустив голову, ковыряла вилкой приготовленную со вчерашнего дня заливную рыбу. Сергий тоже ничего не говорил: не приведи Господь, жена опять расплачется. В Куровицы его вызвали причастить столетнюю бабку – он спешил, боясь, что бабка помрет до его приезда или впадет в беспамятство, так что нельзя будет напутствовать ее на пороге Вечности, а бабка, услышав, что он вошел в комнату, открыла голубоватые старческие глаза, оглядела его и сказала недовольно: «Что это такого молодого-то прислали?» – и помирала потом трое суток, за которые успела рассказать Сергию почти всю свою столетнюю жизнь.
– Пойдем спать, Таня… поздно уже, – наконец решился Сергий.
Татьяна вяло кивнула:
– Может, пирога с яблоками возьмешь, Сереженька?
– Ну, давай пирог! – обрадовался Сергий и добавил: – Тебе эти пироги очень удаются.
– А рыба что? Не удается?..
– Да что ты сегодня такая, Таня? Что с тобой?
Татьяна не ответила, поднялась как-то тяжело с места и пошла за пирогом.
Бабка из Куровиц – ее звали по-старинному, бабкой Василиной, – была чем-то похожа на комаровскую бабку Марью, которая померла четыре года назад. Сергий хорошо помнил, как в церковь заявился Мишка – пьяный вдрызг, так что еле на ногах стоял, подошел к нему и, чтобы не упасть, ухватился за вышитую Татьяной епитрахиль.
– Спасай, батюшка… мать помирает.
– Так ведь она неверующая у тебя, – растерялся Сергий.
Мишка пьяно мотнул головой:
– Попа просит!..
– Ну, раз просит…
Бабка Марья лежала в маленькой темной комнате на нечистых простынях, накрытая шерстяным одеялом. В комнате было одновременно холодно и душно. Марья никогда не была полной, а под старость совсем высохла и под тяжелым одеялом казалась крошечной и очень слабой – Сергий тогда тоже испугался, что не успеет ее напутствовать, и она отойдет без соборования и принятия Святых Тайн. Он осторожно расстелил на маленьком столе подле кровати покровец, поставил на него дароносицу и возжег свечу. Свеча горела еле-еле – прозрачным, дергающимся огоньком, как будто все время норовившим погаснуть. Мишка топтался в дверях.
– Уйди ты, бога ради, – тихо сказал Сергий.
Мишка не стал спорить и вышел. Сергий вздохнул с облегчением и глянул на Марью. Она смотрела на него внимательно из-под полуприкрытых век и молчала. Сергий поклонился дароносице со Святыми Тайнами и начал читать «Отче наш». Когда он перешел к «Верую…», в пространстве между стеной и изголовьем кровати послышалось движение. Он прервал молитву, подошел и заглянул в полумрак. Там, прижавшись спинами к стене, сидели трое детей: две девочки и мальчик лет пяти-шести. Из-за худобы дети казались еще младше, чем были на самом деле.
– Раба Божия Екатерина и раба Божия Елена… – начал Сергий и запнулся: имени мальчика он не знал или не помнил. – Вы тут что?..
– Что, помирает бабка? – вопросом на вопрос ответила старшая.
– Не помирает, а уходит в жизнь вечную, – поправил Сергий.
Дети молчали. Что они могут понимать? В комнате пахло чем-то кислым.
– Сергий… – позвала вдруг бабка Марья.
– Что такое, Мария Федоровна?
Бабка вздохнула и замолчала, как будто на то, чтобы позвать его, ушли все ее силы. Сергий выпрямился, положил ей руку на лоб – лоб был сухой и прохладный, как газетная бумага.
В течение ночи Мишка еще несколько раз заглядывал в комнату и что-то спрашивал. Заглянула и Наталья – бледная, растрепанная, в замызганном халате – и попыталась шугануть детей, но Сергий сказал, что дети ему не мешают и только на время исповеди им придется выйти и подождать разрешающей молитвы. Наталья посмотрела на него с вызовом и усмехнулась, но от детей отстала. Люди так часто: в Бога не веруют и в церковь не ходят, а как раз перед тем, как приходит срок, Бог осеняет их своей благодатью, и они зовут священника, чтобы избавить душу от бремени грехов. Марья дышала часто, с усилием, но одеяло у нее на груди едва приподнималось.
– Помирать не хочу, батюшка. Еще бы пожить хоть немного…
– Бог все простит, – невпопад ответил Сергий.
– Дурак ты, – вздохнула Марья. – Молодой еще…
Татьяна поставила перед ним чашку чая на блюдце и тарелку с куском яблочного пирога, потом задержалась немного, обняла его и поцеловала в голову:
– Прости меня, Сережа… я у тебя глупая.
– Ты все об этом… да бог с ним, с Петром! Перебьется…
Татьяна тихо засмеялась и еще раз его поцеловала.
Поздним вечером, лежа в постели, Сергий слушал, как Татьяна возится на кухне. Никогда не оставит работы на утро – вот характер… Она тут, наверное, без него устала, соскучилась, а он – хорош… Сергий вздохнул, досадуя на себя, что обидел жену. В дорожной сумке у него лежал для Татьяны вышитый платок, подаренный ему в Куровицах одной из родственниц бабки Василины. Он перевернулся на другой бок. Да уж, хорош… а еще священник, батюшка! Нужно было никого не слушать и поступать на математико-механический.
Бабка Марья уходила медленно: под утро она выпростала из-под одеяла руку, дотронулась пальцами до шеи, сказала: «Жила не бьется…» – и отошла.
На окна брызгал тоскливый осенний дождь, за окнами раскачивался лес, и стояла такая тишина, какая может быть только ранним утром в сентябре. Комарова подошла ближе, таща за руки сестру и брата, и сухими глазами внимательно посмотрела на еще не изменившееся и как будто живое лицо бабки Марьи. Сергий по привычке погладил Комарову по голове, и она еле слышно заскулила.
– Поплачь, раба Божия Екатерина, от слез душе легче, поплачь…
Но она не плакала, а продолжала тихо и высоко скулить, а потом отпустила сестру и брата, изо всей силы зажала рот ладонями и зажмурила глаза и долго стояла так, чуть покачиваясь, будто из закрытого окна дул на нее промозглый осенний ветер.
«Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день… – начал он читать про себя, – и от всякаго лукавствия противного ми врага избави мя…»
Пришла Татьяна, легла осторожно на кровать и укрылась одеялом, боясь потревожить мужа. Потом поворочалась немного, устраиваясь поудобнее, и едва слышным шепотом спросила:
– Сережа, ты спишь?
«…вся ми прости, елика согреших во днешний день… да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего…»
Сергий не ответил и покрепче зажмурился, делая вид, что спит. Татьяна помолчала, потом легонько коснулась пальцами его плеча – через одеяло он не почувствовал ее прикосновения, скорее, догадался о нем – Татьяна так часто делала, – потом, не дождавшись, что он проснется – а он обычно и не спал, – уходила на кухню.
– Ну, спи…– еще помолчала. – Спи, Сережа…
«…моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа…»
Рассказала бы хоть когда-нибудь, что у нее на душе, а то все молчит и вздыхает, а если говорит, то все о чем-нибудь насущном: то по хозяйству, то вышивку покажет, спросит: «Нравится – не нравится?» – и, услышав, что нравится, зардеется, как маленькая. Сергий улыбнулся в подушку. Когда он Татьяну впервые увидел, она сидела на скамейке возле забора родительского дома и вышивала на пяльцах. Сергий спросил, как пройти к дому, куда позвали его крестить ребенка. Татьяна подняла голову от вышивки, и Сергий так и остался стоять с открытым ртом. Когда он возвращался с крестин, то пошел специально мимо Татьяниного дома, но ее уже не было – скамейка была пуста. В следующий раз он приехал уже делать предложение.
«…моли за мя грешного и недостойного раба… Господи, ну почему оно все так? Ты мудрый и милосердный, Ты читаешь в человеческом сердце, как в открытой книге, и если человек сотворен по образу Твоему и подобию Твоему, то отчего чужая душа – потемки? Даже и душа собственной жены, хотя в Писании сказано, что жена – кость от костей мужа и плоть от плоти его, и будут муж и жена одна плоть…»
Отец Александр, предшественник Сергия, – грубиян каких поискать, человек могучего телосложения и – по молодости – могучего здоровья, впоследствии разрушенного неумеренным потреблением спиртного, говорил, что человек на то и создан Господом, чтобы не надеяться во всем на букву Писания и «иногда раскидывать своей мозгой». Александру было легко говорить: у него не было жены.
– Ну спи, спи, Сережа… – Татьяна еще раз тронула его за плечо, легко провела рукой по волосам.
«…моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа…»
– Таня… Танюша…
Татьяна ответила не сразу, спросила испуганно:
– Это я тебя разбудила?
– Да я не спал. Так, дремал. – Сергий открыл глаза и повернулся к Татьяне: в темноте он различил очертания ее лица и пышных волос, которые она на ночь обычно не заплетала – от этого болела голова.
– Танюша, я поговорить с тобой хотел…
Татьяна часто задышала. Когда она волновалась, дыхание у нее становилось сбивчивым и ноздри маленького носа чуть трепетали.
– О чем поговорить, Сережа?
«…моли за мя грешного… еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением…»
– Да вот… – Сергий запнулся. – Ты тут… как без меня? Очень скучала?
– Да ничего, Сережа… потихоньку.
Он не увидел – почувствовал, что она улыбнулась.
– Лик Богородицы бисером вышивала, красиво получилось.
Сергий молчал, вглядываясь сквозь темноту в ее лицо. Красивая у него жена. Красивая и добрая.
«…еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением…»
– С тебя самой Богородицу можно писать.
Татьяна смущенно засмеялась:
– Что ты такое говоришь, Сережа…
– А разве неправда?
Он протянул руку в темноту, как бы невидимо проникнутую ее светом, но Татьяна ускользнула – он только ощутил под пальцами движение воздуха.
– Ты что, Таня?
Она не ответила, ткнулась лицом в подушку. Осенняя темнота стала просто темнотой. Сергий вздохнул, лег на спину и уставился в потолок.
Его отец, в свое время в буквальном смысле силой заставивший его поступать в Духовную академию, работал в поселке фельдшером, был человеком неверующим и скорым на расправу, если встречал малейшее неповиновение. Духовная служба представлялась ему делом бессмысленным, но в то же время – несложным и спасающим от, как он выражался, «человеческой слякоти», в которой ему приходилось возиться с утра до поздней ночи: когда фельдшерский пункт закрывался, болящие являлись к нему на дом, потому что «Петрович поматерится-поматерится, но дело свое сделает». Сергий, после школы зубривший церковнославянский и молитвы из списка для практического экзамена, слышал, как отец за стенкой вправляет кому-нибудь вывихнутый сустав или вскрывает панариций, – отцовская ругань смешивалась с криками болящих, тоже по преимуществу матерными.
«…моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых…»
Он закрыл глаза и полежал так немного, но сон, несмотря на усталость, не шел.
«Господи Боже наш, в Негоже веровахом, и Егоже имя паче всякаго имене призываем…» – начал про себя Сергий следующую молитву, и на душе сразу стало как-то легче. Он никогда не задумывался о том, откуда в нем взялась вера; мать, как и отец, тоже была неверующей и работала в фельдшерском пункте медсестрой: мыла инструмент и делала перевязки. Она была тихая и, разговаривая, всегда смотрела куда-то в сторону и вся сжималась, когда кто-нибудь неожиданно протягивал к ней руку или проходил слишком близко за ее спиной.
Вера появилась как-то сама собой, втекла в него незаметно за твержением молитв и учением церковнославянского, и однажды он зашел к отцу, возившемуся с громадным чирьем под мышкой у бабки из соседней деревни (из-за чирья бабка не могла подоить корову), и попросил пореже поминать имя Господа всуе. Отец отвлекся от бабкиного чирья, поднялся со стула, широко размахнулся и отвесил будущему батюшке крепкую оплеуху. Сергий улыбнулся и прижал руку ко рту, чтобы не рассмеяться и не разбудить Татьяну. Надо было попросить ее показать вышивку: она, наверное, ждала этого.
– Таня… – шепотом позвал Сергий, не надеясь, что она ответит.
Но Татьяна ответила спустя некоторое время. Спросила:
– Опять на исповеди пришлось послушать всякого?
Она знала, что Сергий никогда не раскрывает тайну исповеди, а потому всегда интересовалась только в общем, не спрашивала подробностей. Иногда Татьяна, глядя на мужа, всегда спокойного и не повышавшего голоса, думала, что он носит в душе так много чужих грехов, что другой бы на его месте, может быть, потерял бы веру и отчаялся.
– Да так…
Издалека, откуда-то с другого берега, донесся протяжный вой, в ответ в поселке залаяли собаки, и Дружок пару раз глухо гавкнул сквозь сон. Татьяна вздрогнула под одеялом.
– Ты что, Таня?
– Страшно… – прошептала Татьяна. – Волк это, кажется…
– Какой волк? – удивился Сергий. – Собака воет.
– У нас в Заполье волки так выли. Лежишь зимой под одеялом, засыпать собираешься, а он как завоет, и кажется, прямо под окнами сидит и вот сейчас в дом влезет.
Сергию стало смешно.
– Что тебе этот волк сделает? Да и собака это, никакой не волк.
– Волк, – серьезно повторила Татьяна. – Волк всегда к несчастью воет.
Сергий вздохнул. Все у них к несчастью: волк в лесу завоет от голода или от тоски (а Бог их знает, может, они от радости воют?), выпь закричит – значит кто-то умрет скоро, на порог наступать нельзя – несчастье в дом занесешь. Роженицам, если кто-нибудь не догадается вызвать «скорую» из райцентра, они мажут промежность вареньем или медом, чтобы ребенок поскорее вышел, а потом этого ребенка несут в церковь крестить – и не понимают, что это ведь язычество и мракобесие. И город – всего в ста шестидесяти километрах, на электричке – рукой подать. И непролазная грязь. Сергий вспомнил дорогу от Куровиц, на которой «газель» Петра дважды увязла в лужах раскисшей глины. Волк снова завыл вдалеке – уныло, как будто жаловался на придвигающуюся зиму. Сергий погладил Татьяну по голове:
– Волк – тоже божья тварь, Таня.
Татьяна ничего не ответила, и Сергий еще несколько раз машинально провел ладонью по ее волосам.
Отец у Сергия помер рано, Сергий тогда оканчивал первый курс в академии, как раз шли экзамены, и он срочно приехал из города. На похоронах собралось много народу: отца в поселке любили, потому как едва ли нашелся бы человек, которому Петрович не вправил бы когда-то вывихнутого пальца, не вскрыл бы нарыва и не выдернул посреди ночи вдруг разболевшегося зуба. После похорон отец Александр подозвал Сергия и отвел в сторону:
– Ну что, постигаешь науку?
– Постигаю, – кивнул Сергий.
– А ну-ка…
– Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя… – начал Сергий медленно и тут же подосадовал на себя: взрослый же уже человек, в академии учится, а перед отцом Александром – все равно что школьник.
Отец Александр послушал немного, потом засмеялся, пренебрежительно махнул рукой. Сергий замолчал.
– Отец твой многогрешный был и, надо сказать, в Бога вот ни на столько не веровал.
Сергий молчал, не зная, что ответить, и во все глаза смотрел на отца Александра, возвышавшегося над ним всем своим богатырским ростом. Судя по запаху, с утра батюшка немало принял на грудь.
– А ты его все-таки не стыдись… – Александр мотнул головой, будто пытаясь поймать какую-то ускользавшую мысль.
– Да я и не стыжусь, отче…
– Не стыдись, – упрямо повторил отец Александр, как будто Сергий ему возражал. – Ибо никто из нас не в силах постичь Божьего замысла. Видел, сколько пришло-то?..
– Видел…
– Весь поселок пришел. – Александр повернулся, поглядел в сторону кладбища. Некоторые еще оставались подле свежей могилы, говорили о чем-то вполголоса – должно быть, обсуждали покойного. Взгляд Сергия остановился на неподвижной, маленькой фигурке матери, стоявшей у самого края могилы. Жаль ей было отца? Он ее, бывало, и бил – не больше, правда, чем другие бьют своих жен, а бывало, и жалел. С новой фельдшерицей, умевшей только прописывать от всего подряд обезболивающее и отправлять в райцентр, мать потом не сработалась, прожила после отца недолго и не застала ни Сергиева венчания с Татьяной, ни его рукоположения в священники. Татьяна бы ей, наверное, понравилась.
– Вот так… – задумчиво произнес отец Александр. – Батя твой мне как-то занозу из глаза вынимал. Вон, видишь?
Он наклонился к Сергию, обдав его крепким перегаром, и оттянул пальцем нижнее веко – на самом глазном яблоке внизу виднелся тонкий белый шрам. Сергий вздрогнул.
– Дрова колол, – пояснил Александр, – щепа прямо в глаз и отлетела. Думал – всё… да еще и потер с перепугу, она так вглубь и ушла. – Он выпрямился.
– И отец что, вытащил?
– Я к нему бегом тогда побежал… Петрович удивился, меня увидев: я же никогда ничем не болел, сохранил Господь… а тут прибегаю, глаз открыть не могу, слезы текут, говорю что-то, а что говорю – сам не знаю… Я тогда сильно испугался, что слепым на один глаз останусь. И он вытащил: усадил меня на табурет, лампочкой в глаз посветил, взял пинцет и за секунду вытянул, альбуцидом закапал и домой отпустил. – Отец Александр помедлил, подумал еще о чем-то. – А с исповедью меня к черту послал.
– Так как же он… без исповеди? – пробормотал Сергий растерянно.
– А что ему! – Александр снова махнул рукой – у него была привычка в разговоре взмахивать рукой перед носом собеседника. Говорили, однажды он, беседуя с одним игуменом, так же точно махнул рукой и действительно задел его по носу, и старенький игумен сильно обиделся. – Что ему твоя исповедь!
– Ну как же…
Сергий попытался было отстраниться от отца Александра, чтобы тот и его не задел по носу, но Александр вдруг положил большую ладонь ему на плечо и сжал пальцы, так что Сергий поморщился.
– Молодой ты еще, Сергий. Бог – Он не только в молитвах. Бог в делах человеческих.
«…и Егоже имя паче всякаго имене призываем, даждь нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякаго мечтания…»
Сергий прислушался. Татьяна дышала ровно, как будто все-таки уснула, хотя он никогда не мог понять, спит жена или только лежит с закрытыми глазами и думает о чем-то своем. В окно ударились капли дождя – одна, вторая, потом сразу несколько подряд, и застучал, затарабанил по стеклам и крыше тоскливый сентябрьский ливень.
Когда Сергий окончил академию, ректор долго не хотел отпускать его.
– Ну куда ты поедешь? Давай хоть в Сусанино тебя направим, там батюшка хороший, и ему давно нужен помощник. А? Соглашайся…
– Отпустите в поселок, владыко, – заупрямился Сергий. – Буду отцу Александру помогать.
– Тьфу ты, прости господи. – Ректор перекрестился. – Куда тебе к этому пьянице? Ты на себя-то посмотри, Сергий… Тебе нужен духовный наставник мудрый и душой мягкий, который тебе никогда грубого слова не скажет, а у Александра что ни слово, то грубое или вовсе матерное.
Ректор отца Александра знал хорошо: у него на окраине поселка была дача, куда он изредка приезжал летом, и тогда Александр заявлялся в гости и заводил разговор, который обыкновенно заканчивался ссорой.
– И в церковь там почти никто не ходит… – продолжал ректор. – Низина, болото, не растет ничего… река эта, в которой каждый год кто-нибудь то утонет, то утопится.
Сергий сдержанно вздохнул и промолчал. Ректору нужно было выговориться.
– Ну куда ты такой поедешь?
– Так ведь… Христос тоже не к праведникам приходил, отче.
– Христа вспомнил! – Ректор махнул рукой. – Я же с тобой по-человечески разговариваю. Пропадешь там.
В поселок Сергий приехал поздней осенью, в начале ноября. Канавы вдоль дорог были переполнены водой; выливаясь на дороги, она превращала их в страшную грязь, в которой ноги вязли по щиколотки. Дома, скрытые летом за листвой деревьев, выставляли напоказ облупившиеся стены, и мокрые неухоженные собаки жались в своих конурах, ленясь лишний раз облаять редкого прохожего. Отец Александр встретил Сергия хмуро и сунул ему в руки ящик с инструментами и жестянку с гвоздями: нужно было починить протекавшую крышу церкви, потому что в дождливые дни вода лилась прямо на престол и проводить службу было невозможно.
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная…»
Татьяна тихо застонала во сне. Ее волосы пахли крапивным отваром и еще какими-то травами.
«…вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и в неведении, яже во дни и в нощи… яже во уме и в помышлении…»
Однажды Сергий случайно взял какую-то чашку на кухне, подумав, что там чай, но в чашке оказался какой-то густой горький настой; Сергий сделал глоток и поморщился, а Татьяна, вошедшая в кухню, вдруг подбежала к нему и отобрала чашку:
– Это, Сережа, не тебе!
Он хотел спросить, что в чашке, но не стал: лицо у жены было жалобное и виноватое. Она перед тем ездила домой, в Заполье, и вернулась печальная, хотя обычно приезжала от матери веселая и рассказывала целый вечер тамошние новости: например, что кошка Уралка, названная бог весть почему в честь хоккейной команды, принесла двух котят – рыженького и пестрого, а старый колодезь совсем развалился, и нужно бы сделать ему новую крышу и подновить сруб, а сделать некому, и на обратном пути в окно электрички ударился шмель, но, слава богу, не разбился, только загудел обиженно и полетел дальше. Сергий слушал Татьянины рассказы вполуха, рисовал свои эскизы или обдумывал завтрашний день – в последнее время ему становилось тяжело исполнять одному все обязанности в церкви, и, хотя нередко ему помогали некоторые прихожане, он ждал, как в свое время отец Александр, что у него, может быть, появится присланный епархией помощник.
Он осторожно сел на кровати, спустил ноги на пол и медленно поднялся, но кровать все равно заскрипела, он замер на секунду и, убедившись, что Татьяна крепко спит, тихонько прокрался к двери. Дождь за окнами ровно шумел: капли глухо ударялись о листья садовых деревьев, собирались в ручейки и ручьи, и было слышно, как вода плещет через край большой жестяной бочки для полива, поставленной под водосточной трубой.
После ремонта церковной крыши он тогда сильно простудился и слег с высокой температурой и лихорадкой. Отец Александр забрал его к себе домой и лечил водкой; поскольку Сергий отказывался пить, Александр лечил его растираниями. Смешивая водку с водой и уксусом для компресса, он ворчал сквозь зубы, что испортили в городе хорошего парня…
– …а ректору академии нужно не молодежь наставлять, а картошку сажать на огороде.
– Так ведь тут… не растет ничего, – слабым голосом возразил Сергий. – Болото… грязь непролазная.
– Потому и грязь, что все не своим делом занимаются! – отрезал Александр, подошел к Сергию с готовым компрессом и принялся энергично растирать ему руки и шею.
– Меня твой отец научил, от простуды – первое средство!
– Отче, больно!
– Терпи! Христос терпел и нам велел!
Отец Александр с Сергиевым отцом после случая с занозой сильно сдружился, нередко они выпивали вместе, и Александр перенял у фельдшера некоторые врачебные приемы, которые переиначил на свой лад, более соответствовавший его не подверженному никаким хворям организму.
– Ну-ка, повернись…
– Отче…
– Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, – безжалостно отрезал отец Александр и вдруг ни с того ни с сего заявил: – Жена тебе нужна, Сережа. Без жены скучно.
– А что же вы не женились?
– Дурак был, – просто ответил Александр и добавил еще несколько слов из числа тех, которые имел в виду владыка ректор, отговаривая Сергия возвращаться в поселок.
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша… яко Благ и Человеколюбец».
Сергий не стал включать на кухне свет, а ощупью добрался до стола, нашел стоявший на подоконнике подсвечник, возле которого всегда лежал спичечный коробок, и зажег свечу. Кухня осветилась неярким колеблющимся светом, как в церкви. Сергий налил из чайника холодной воды в чашку, присел на Татьянин стул; улица за окном провалилась в совсем уж непроглядную темень, только капли, стекавшие по стеклу, серебристо поблескивали. Сергий постучал по нему пальцем, и две капельки сорвались вниз, побежали, одна обгоняя другую, потом на середине окна встретились и прочертили красноватую в свете свечи вертикальную линию.
Когда отец Александр решил, что для первого раза растираний достаточно, он навалил на болящего два тяжеленных одеяла, трижды перекрестил его и оставил наконец в покое. Сергий попытался стянуть хотя бы одно из одеял, но руки были как ватные, и от духоты и запаха уксуса тянуло в сон, и он закрыл глаза и провалился в тяжелое забытье. Ему приснилось, будто бы он взбирается по высокой лестнице на церковную крышу, и, когда уже казалось, что лестница вот-вот кончится, она удлинялась, и ему снова приходилось карабкаться вверх, с трудом переставляя неслушавшиеся ноги. Когда же он все-таки добрался до крыши, там оказалось освещенное солнцем поле и густая трава волнами колыхалась от ветра. Удивленный, он сделал несколько шагов, и трава вдруг выросла перед ним женской фигурой, обвила руками и прижалась к губам долгим теплым поцелуем.
Проснулся Сергий совершенно здоровым: температуру и озноб как рукой сняло, и довольный отец Александр, расхаживая взад и вперед по комнате, объяснял, что если бы Сергий согласился принять лекарство внутрь, то выздоровел бы еще раньше, но в городе помимо священной науки молодым вбивают в головы всякую ересь.
– Вавилон! – заключил Александр, подняв кверху палец. – И будет он ниспровержен Господом, аки Содом и Гоморра!
Сергий не ответил: перед глазами все еще стояла женщина, вышедшая из небесных трав. Она что-то говорила ему во сне, и он пытался припомнить что, но припоминался только нежный шепот, в котором невозможно было разобрать ни слова. Потом он много раз брался писать ее портрет, но ничего не получалось: под кистью все линии искажались, расплывались, проступая чертами женщин знакомых или мельком виденных наяву, хотя ту самую женщину он никогда не встречал ни в поселке, ни в городе. В конце концов Сергий бросил попытки вызвать к жизни таинственный образ, испугавшись, что за рисованием совсем его позабудет.
– Ну, что сел, глаза вылупил? – Александр по привычке замахал у Сергия перед носом ладонью. – Раз выздоровел, вставай!
Дождь как будто утих на некоторое время, и сквозь тишину снова донесся унылый вой с другой стороны реки, ему долго не было ответа, потом ответил – в лесу, совсем близко – другой голос, чуть выше тоном, или так только казалось из-за расстояния. Тот, далекий, прервался, как бы раздумывая, и снова завыл. Второй на этот раз не ответил, а далекий звал его и звал. Сергий зажмурился, потер пальцами виски. Дождь зарядил с новой силой.
Куровицкая бабка Василина надоела всем своей долгой жизнью, и родственники, собравшиеся в комнате к приезду Сергия, вскоре разошлись, поняв, что бабка решила напоследок потянуть еще на этом свете. Сергий остался сидеть подле Василины; одна из женщин, бывших в доме, принесла ему чаю с печеньем, но он вежливо отказался. Женщина встала посреди комнаты, держа на весу чайное блюдечко и глядя на Сергия вопросительно.
– Ничего не нужно, – повторил Сергий мягко.
Она постояла еще, пожала плечами и ушла.
– Молодого какого прислали… Мужа моего другой провожал…
– Отец Александр? Так он десять лет как преставился, если не больше…
– Опился? – жестко спросила Василина и тут же перескочила на другую мысль. – Шестнадцать штук их нарожала – некому стакан воды поднести.
– Шестнадцать детей? – осторожно переспросил Сергий.
Василина ответила не сразу. Должно быть, когда-то она была высокой, но годы искорежили ее тело и пригнули к земле. Рука с крупными извитыми венами комкала край простыни.
– А эта… эта – так, соседей дачница… летом с города приезжает… а я в городе за всю жизнь ни разу не была… не случилось…
Она еще помолчала и повторила снова: «Молодой какой…», как будто это не давало ей покоя.
– Дети-то у тебя есть?
– Не дал Господь, – сказал Сергий.
– А жену свою любишь?
– Люблю, конечно… жену человеку Господь дает.
Бабка Василина поджала губы и долго молчала. Сергию даже показалось, что она задремала. Стояла тишина, как будто в доме, кроме них двоих, никого не было. Сергий кашлянул, но Василина не пошевелилась. Дом был старый, но еще крепкий и чисто прибранный, и в углу комнаты помещалась полка с несколькими иконами, перед которыми теплилась лампадка. Если бы по нижнему краю полки пустить роспись или сделать резьбу, вышло бы красиво. Можно даже совсем скромную – какие-нибудь веточки или завитушки и крест посередине.
– А мой был безбожник… – очнулась Василина. – От лампадки прикуривал.
– Что? – не понял Сергий.
– От лампадки, говорю, папироску прикуривал, – повторила Василина. – А как помирать, так за батюшкой в поселок послали.
Она замолчала, видимо собираясь с силами. Сергий не торопил.
– Приехал этот ваш… отец Александр. – Она еще помолчала. – Рассказал он ему, как меня на глазах всей деревни лупцевал, как думаешь?
– На исповеди каждый человек в своих грехах перед Господом кается.
– «Грехах»… – Василина усмехнулась. – Знаешь, какая у меня коса была? – Она вытянула перед собой дрожащую руку, сжала кулак: – Вот… в руку была толщиной… всю выдрал. – Бабка Василина опустила руку и прикрыла увлажнившиеся глаза. – Так и прошла жизнь…
– За все наши испытания нужно благодарить Господа, – возразил Сергий. – Господь нас испытывает по силам нашим, и в Царстве Божием все нам зачтется.
Василина открыла глаза, поглядела внимательно, потом ее веки медленно опустились. Сергий ее перекрестил, положил руку на покрытый испариной лоб.
– Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
«…Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим…»
Двенадцать лет с Татьяной прошли как во сне. Сергий иногда боялся, что его любовь к жене была слишком сильной и, может быть, неприличной для верующего человека: в незапамятные времена Господь забрал у Иакова Рахиль именно за то, что Иаков слишком сильно любил ее и в этой любви забыл Бога. Он отпил немного воды из чашки и пожалел, что не заварил чая: в кухне было прохладно. С потолка на невидимой паутине спустился паук и повис над свечой. Сергий дунул на него, чтобы он не упал в пламя – паук закачался, коснулся стены, ухватился и быстро побежал вверх.
– Не жалеешь, что такая молодая, а уже замужем? – спрашивал Сергий Татьяну, когда они ехали домой с венчания.
– О чем жалеть? Не жалею…
Сергий хотел сказать то, что обычно говорили в поселке в таких случаях, мол, не нагулялась еще, но вовремя спохватился, что это может показаться грубым.
– Быть женой священника – непростая работа…
– Я к работе привыкла. Сами же видели.
Когда Сергий приехал свататься, будущая теща полдня показывала ему Татьянины вышивки, и Сергий, рассматривая затейливые узоры, думал о том, что будущая жена удачно сочетает цвета и что им, наверное, будет легко понять друг друга.
– Вот, Танечка наш сад вышила. – Она раскинула на скамье большое полотно, сплошь покрытое цветами. Сергий улыбнулся: Татьяна изобразила на своей картине все, как было на самом деле, и рядом с аконитом, который дети в поселке называли «коньками», цвели лук и картофель.
– Очень красиво.
– Вам нравится? – Женщина выпрямилась, прижала уголок полотна обеими руками к груди. – Вы ее только… не обижайте…
– Это и духовная работа тоже, – сказал Сергий.
– Это ничего. Я справлюсь. Господь поможет.
Сергий смотрел на нее и не мог насмотреться, и ему хотелось, чтобы она прямо сейчас обняла его своими белыми руками – кожа у жены была того ослепительно-белого цвета, какой бывает только у рыжеволосых. Но Татьяна сидела напротив с прямой спиной, руки ее были сложены на коленях, а голова чуть наклонена, так что он не видел лица и не мог понять, о чем она думает. Старенький ЛиАЗ потряхивало на ямах, и рыжие волосы Татьяны, выбивавшиеся из-под платка, колыхались в воздухе.
– А я-то тебе нравлюсь? – спросил Сергий и испугался: вышло как-то уж слишком прямо.
– Нравитесь, – просто ответила Татьяна, и он увидел, что ее склоненное лицо залилось краской.
Он быстро наклонился к ней и поцеловал в лоб. Татьяна отпрянула от неожиданности, и он, смеясь, перекрестил ее:
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа…
– Цвир-цвир! – застрекотал за печкой сверчок, перекрикивая шелест дождя.
Сергий вздрогнул и уронил чашку – она упала с громким стуком на пол. Он замер, прислушиваясь, но все было тихо: спальня через коридор, вряд ли Татьяна могла проснуться. Сергий наклонился за чашкой – в спине кольнуло, подержало немного и отпустило. Двенадцать лет прошли как во сне.
– А красивая у тебя жена? – допытывалась бабка Василина.
– Красивая, – сказал Сергий. – Очень красивая.
– И любит тебя?
– Слава Богу…
– А я от своего Андрея бегала. В сарае мы от него один раз прятались, а он ходил по сараю с вилами, тыкал во все углы. Я думала, всё, кончилась моя жизнь, а смотри – его самого пережила. – Василина невесело засмеялась и закашлялась, кашляла долго, с надрывом, а когда в груди успокоилось, добавила: – Не знаю теперь, кто у меня от кого…
Сергий хотел сказать, что Господь милосерден и простит все прегрешения, если искренне раскаяться, но вместо этого сказал:
– Так ведь он бил вас…
Василина поглядела удивленно:
– Так ведь всех бьют, батюшка.
– Ты что тут, Сережа?
Сергий обернулся: Татьяна подошла, обняла за плечи.
– Что, разбудил тебя?
– Нет, я так… Меня, наверное, дождь разбудил…
Татьяна отпустила его, поставила на плиту чайник и полезла в кухонный шкаф за банкой варенья. Она двигалась плавно и почти бесшумно, расставляя на столе чашки и розетки. Сергий подумал, что надо бы ей помочь, но залюбовался ее движениями и так и остался сидеть.
– Меня дождь часто будит… – сказала Татьяна. – У меня сон чуткий. А ты что?..
– Да так… не спится что-то.
– А-а…
Она присела напротив, подперев кулаком подбородок и чуть склонив набок голову. Татьяна своего отца почти не знала: он умер, когда она еще не пошла в школу. Она говорила Сергию, что помнит только, что отец брал ее на руки, высоко подбрасывал и ловил, а мама сильно этого пугалась и однажды ударила его по лицу полотенцем, которым вытирала посуду, и отец, вместо того чтобы рассердиться, засмеялся.
– Таня, послушай…
– Да?
– Я с тобой все поговорить хотел…
– Чай пей, Сережа, остынет…
Сергий глотнул чаю, сунул в рот ложку малинового варенья и забыл слова, которыми хотел начать разговор.
– Что, Сережа?
Татьяна придвинулась, вытянула руку, погладила его по голове, как маленького. Сергий молчал, болтал ложкой в чае. Дождь напоследок ударил в окно несколькими крупными каплями и перестал. Вода в реке будет завтра высокой и затопит все мостки, так что будет не прополоскать, а Татьяна как раз думала затеять завтра стирку.
Когда она подхватила Вальку под мышки и поставила на ноги, он вдруг нарочно присел, потянул назад, и не ожидавшая этого Татьяна упала вместе с ним в воду.
– Ой, упали, тетечка!
– Вставайте скорее, платье намочите!
– Да тетечка и так вся мокрая!
– Мокрая, мокрая!
Дети смеялись, мельтешили вокруг, плескали водой, так что уже не только платье, но и волосы Татьянины насквозь вымокли и колыхались в воде, похожие на нити густой рыжей тины. Белобрысая девочка выскочила на берег, подбежала к тазу с бельем, повытаскивала из него платья и рубашки и побросала все в воду. Татьяна, с трудом поднявшись на ноги, смотрела, как вещи, распластавшись на воде, медленно плывут к середине реки – ловить их почему-то не хотелось, и она просто стояла и смотрела, как их подхватывает течение.
– Ой, вас родители заругают, тетечка!
– Ее муж заругает!
Дети сами принялись ловить белье и почти все собрали, и белобрысая девочка, бросавшая его в воду, тоже полезла ловить и вытащила из прибрежных зарослей зацепившуюся за тростник наволочку. Татьяна медленно вышла на берег и стала отжимать подол.
– А злой у вас муж, тетечка? Сильно он вас заругает?
– Не заругает, – улыбнулась Татьяна. – Он у меня добрый.
– Таня…
– Что, Сережа? Спать тебе нужно, утро скоро… а ты не спавши.
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная… яже в слове и в деле, яже в ведении и в неведении, яже во дни и в нощи… яже во уме и в помышлении… научи, Боже, настави, направи… благослови к Истине…»
– Таня… – Сергий помедлил. – Счастлива ты со мной?
А девочку эту, беленькую, и ту, которую Татьяна приняла за ее сестру, она больше никогда не видела: видимо, обе были из приезжих.
– Что ты такое говоришь, Сережа?
Сергий молчал и внимательно смотрел на нее: в мягком свете свечи лицо Татьяны казалось моложе.
– А прямо по улице идите, батюшка, – сказала тогда, двенадцать лет назад Татьяна, и Сергий про себя удивился, как это ей удается произносить самые простые слова так, что хотелось бы остановиться и никуда не идти, а только слушать и слушать, как она объясняет дорогу, – там три дома пройдете, у зеленого с резным козырьком направо повернете, там и будет нужный вам дом, где ребеночка крестить.
– Я еще вчера диаконом служил, – зачем-то признался Сергий. – Первый раз буду таинство крещения совершать.
– Ничего, Бог поможет.
– Ну, Таня…
– Да что ты?! – Татьяна испугалась, робко тронула его за руку.
Тучи расползались, и воздух млел в серовато-розовой дымке. Скоро наступало время, которое Сергий любил больше всего: деревья пожелтеют и покраснеют, холм, где стоит церковь, и сама церковь с ее осыпающимися кирпичными стенами будут выглядеть как-то иначе, по-праздничному, и на Рождество Пресвятой Богородицы соберется половина поселка, а если повезет, то золотая осень продержится до самого Покрова.
5
Сколько Комарова ее помнила, бабка курила «Беломор» – даже когда стала совсем старая и руки у нее дрожали так, что она подолгу не могла чиркнуть спичкой о коробок и поднести к папиросе, тогда Комарова брала из ее рук коробок и сама зажигала спичку. Бабка затягивалась, прикрывала глаза и выдыхала сизоватый дым. Комаровы пытались поймать этот дым руками – он проскальзывал между пальцами, завивался в кольца, расплывался в спертом воздухе бабкиной комнаты и оседал на стенах липкой коричнево-рыжей пленкой.
– Ба, ну какой был комиссар-то? Красивый?
Ленка, когда была совсем мелкая, любила влезать на подоконник и сидеть там, как на насесте, уцепившись пальцами за облупленный край. Комарова дразнила ее за это курицей, а Ленка кривлялась и показывала язык.
– Ба, ну какой комиссар-то был? – Ленка уже вся извертелась на своем насесте. – Звезда у него была красная? И конь был?
– Да отвяжись ты от нее… – цыкнула Комарова. – Репейник…
– Ну ба-а… – не обращая внимания на старшую сестру, противным голосом ныла Ленка. – Ну расскажи про комиссара!
Комарова ухватила Ленку за подол и потянула вниз; взвизгнув, Ленка съехала на пол, ушиблась и заревела. Бабка ткнула папиросу в пустую банку из-под майонеза, служившую пепельницей, заохала, стала поднимать Ленку с пола, но та ревела, терла глаза грязными кулаками и отпихивала бабкины дрожащие руки.
– Дура! Дура Катька!
Комарова не отвечала; отбежав на середину комнаты, молчала, крепко сжав губы и глядя исподлобья. Бабка наконец подняла Ленку, отряхнула, повертела – не ушиблась ли? – и посмотрела на Комарову с укором – глаза у нее сильно слезились, и казалось, что она все время плачет.
– Ну что ж ты, Катя? Это же твоя сестра.
– Моя сестра – вот что хочу с ней, то и делаю! – зло ответила Комарова и почувствовала, что в горле встал противный липкий ком. – Чего она?..
– А ты чего?! – выкрикнула Ленка. – Дура!
– Сама дура! Комиссара тебе нужно! – Комарова подскочила к Ленке и попыталась ударить, но бабка успела ее вовремя поймать, и Ленка, извернувшись, плюнула Комаровой в лицо.
– Да что же это вы… – причитала бабка. – Сестры, а живете как кошка с собакой. Кошка с собакой лучше живут, чем вы…
Она еще долго что-то говорила им, когда обе уже успокоились и забрались к ней на кровать, гладила дрожащими руками их спутанные, выгоревшие на солнце волосы.
– Не дети, а сволочи. Не стыдно вам?
Комарова сердито передернула плечами и глянула на Ленку: та сидела, прижавшись к бабке, глядела в пол и болтала в воздухе не достающими до пола ногами.
– Пигалица мелкая, – сказала Комарова. – Возьмет тебя комиссар, как же…
– Тебя никто не возьмет, – ответила Ленка тихо. – Нужна ты кому, собака…
– Это я-то – собака?
– Ты-то, ты-то – собака!
Комарова хотела ответить, но сдержалась и отвернулась: Ленку все равно не переспоришь, если она взялась кривляться и талдычить одно и то же.
Бабка потянулась к столу за пачкой, чтобы взять себе новую беломорину.
– Ну, ба, расскажи про комиссара! – снова заладила Ленка, поняв, что старшая сестра больше не собирается препираться. – Ну какой он был?
– Да я плохо его помню, доченька. Усы у него были большие… усы помню и форму с орденами.
– А коня? Конь был? – не отставала Ленка.
– Конь был, – согласилась бабка.
– А сабля?
– Да ну вас! – Комарова скинула с макушки бабкину руку, спрыгнула с кровати и побежала вон из комнаты.
Потом они с Ленкой сидели на крыльце, щурясь на заходящее солнце, и Ленка притащила откуда-то лимон, располовинила и посыпала сахаром.
– Ну чё ты, Кать? Чё ты такая злая?
– Никакая я не злая! – Комарова надкусила лимон и поморщилась: он был такой кислый, что сводило зубы.
– Злая! – Ленка тоже надкусила лимон, испугалась его кислоты, сплюнула и наклонилась вниз, высматривая на земле свой плевок.
– Смотри, свалишься.
– Не свалюсь.
Она еще сильнее нагнулась, и Комарова в последний момент успела схватить ее за рукав.
– Чего тебе все неймется?
– У бабки жизнь была… – задумчиво ответила Ленка и сплюнула еще раз – уже нарочно.
– Не плюйся.
– А чё?
– Ничё. Достала.
Комарова наклонилась, придерживаясь рукой за перила, и тоже плюнула вниз. В надвигавшихся сумерках не было видно, куда упал плевок.
– Ну чё, переплюнула? – поинтересовалась Ленка.
– Переплюнула, – наобум сказала Комарова.
Ленка против обыкновения не стала спорить, сидела, болтая ногами, и улыбалась.
– Ты чего?
– У бабки жизнь была, – повторила Ленка. – А у нас, как думаешь, будет?
– Да отстань ты.
– Ну Кать… ты как думаешь? Скажи! – Ленка подергала ее за рукав, потом больно ущипнула.
Комарова взвизгнула и отдернула руку. Ленка ухмыльнулась:
– Извини, я нечаянно.
– Ты дура, что ли?!
– Ну Кать… ну будет?
– Да что у тебя будет? Чего ты прилипла как банный лист к жопе?!
Дверь приоткрылась, и на крыльцо, косолапо переступая босыми ножками, вышел один из мелких. Комарова щелчком отбросила кусочек лимонной кожуры – он отлетел и попал в паутину паука-крестовика в углу окна. Перепуганный паук заметался туда-сюда, потом все-таки сорвался и повис в воздухе, раскачиваясь и смешно растопырив тонкие суставчатые ноги. Мелкий шмыгнул носом и засмеялся, показывая на паука пальцем.
– Мыть его надо.
– Чего?
– Мыть его надо, полные штаны у него.
Дождь сначала побрызгал на мутные окна, потом зарядил длинными тонкими каплями. Олеся Иванна сидела за прилавком, сгорбившись и подперев подбородок ладонью. Она почти не накрасилась, только подвела немного глаза и надела темно-зеленую кофту с большими роговыми пуговицами, которую застегнула до верха, так что ворот топорщился под самым подбородком. Комарова украдкой поглядела на нее и быстро опустила глаза: та казалась какой-то усталой и постаревшей. Покупателей почти не было, только утром зашла тетя Саша с Митей и купила еще килограмм уже совершенно окаменевших пряников, сказав, что ее дачникам пряники очень понравились. Комарова поерзала на табуретке, но Олеся Иванна не обернулась, только переменила руку, на которую опиралась.
– Вон как льет… – пробормотала Комарова. – Настоящая осень…
Олеся Иванна вздохнула:
– Так октябрь уже…
Комарова пододвинула табуретку к прилавку и попыталась сесть как Олеся Иванна, но прилавок был слишком высокий, и было неудобно. Тогда она уперлась ладонями в сиденье и принялась раскачиваться взад-вперед.
– Что, Катя, маешься?
– Да не то чтобы…
– Скучно тебе?
– Да так… нормально.
Олеся Иванна помолчала. На улице послышались голоса, но в магазин никто не зашел.
– Я в твоем возрасте не знала, куда себя здесь от скуки деть. Уехать хотела.
С тех пор как Максим показывал Комаровой товарняк, они виделись пару раз мельком; один раз Максим ее даже не заметил, и Комаровой пришлось окликнуть его, и потом она на себя злилась: нужно было пройти мимо, как будто она тоже его не заметила. Ходит там, небось, сейчас под дождем по путям, мокнет.
– Ленка вот тоже уехать хочет.
– А ты?
– А я-то чего? – Комарова пожала плечами.
– Нинка на днях говорила, ты собралась из дому убежать.
Комарова вздрогнула.
– Да ты не бойся, Кать, я-то тебя не выдам.
Говоря, Олеся Иванна смотрела куда-то мимо Комаровой, как будто читала ценники на хлебных полках. В пятницу вечером, когда она уже закрыла магазин, заявился Петр. Волосы у него были еще более растрепанными, чем обычно, а левый глаз сильно заплыл. Когда Олеся Иванна, по обыкновению усмехнувшись, спросила, что случилось, он ответил зло, что копался на огороде и оса укусила его прямо в щеку. Потом они с Олесей Иванной ушли вместе на склад и долго там о чем-то спорили. Комаровой хотелось подойти к двери и послушать, но было боязно, что ее заметят и Олеся Иванна рассердится и выгонит ее с работы. Наконец Петр ушел, Олеся Иванна что-то прокричала вслед, а потом с силой захлопнула за ним дверь и вернулась в магазин; щеки у нее горели, а углы рта тянулись вниз, как будто она вот-вот заплачет.
– А вы, Олеся Иванна, в город уехать хотели?
Олеся Иванна покачала головой:
– Что мне было в городе делать? Я в Вязье поехала, к тетке. С вечера собралась: какие-то свои колготки, платье у меня было выходное, голубенькое… На дорогу сварила пару яиц, утром поднялась рано, пока мать спала, убежала на станцию и села в тамбур великолукской электрички. Так до самого Вязья в тамбуре и проехала.
Сквозь шорох дождя на улице послышался короткий паровозный гудок, и мимо станции промчался поезд дальнего следования.
– Куда этот, интересно?
– На Лугу, наверное… в это время на Лугу идет.
– И чего тетка?
– Обрадовалась, что… Думала, я погостить приехала, баню натопила. Я у нее несколько дней прожила, пока она не догадалась пойти на станцию и позвонить матери, мол, спасибо, что Олеську прислала, а то скука тут в Вязье… у меня тетка одинокая была, говорили, так и померла девушкой. – Олеся Иванна вздохнула. – Мать сразу примчалась, первой электричкой. Выдрала меня как сидорову козу.
На станции снова загудел паровоз, потом еще один.
– Разъездились... – фыркнула Комарова.
– Я тоже в детстве поезда любила. Смотреть на них бегала, гадала, какой куда едет, все пыталась представить, как там люди живут.
– Да чего… так же, наверное, как здесь. – Комарова пожала плечами.
– Наверное, так же… – нехотя согласилась Олеся Иванна. – До завтра зарядил – хоть магазин закрывай, все равно никого не будет, только если кто-нибудь из мужиков придет за водкой – этим дождь не помеха. Все они хороши… и этот хорош – со своей Оксанкой справиться не может.
– А тетка ваша что?
– А что тетка… защитить меня, конечно, пыталась, мать за руки хватала: «Вера, не бей! Вера, остановись!» Остановится Вера, как же! Потом просила меня оставить хоть на пару недель, но мать все равно меня домой увезла и потом мне всю жизнь этот побег помнила.
– Сильно била?
– Сильно… А если подумать: ну убежала бы я, ей-то что? Нужна я ей была очень? Ладно бы еще парень, а то девочка… – Олеся Иванна махнула рукой и замолчала.
По прилавку ползала совсем сонная муха: Комаровой жалко было ее прихлопнуть.
– А если бы убежали, что бы делали?
– Не знаю… замуж бы выскочила, – усмехнулась Олеся Иванна. – Нашла бы себе в Вязье принца.
Скрипнула дверь, потом открылась настежь, и на пороге появился Петр. Олеся Иванна коротко взглянула на него, чуть покраснела, но ничего не сказала и продолжала молча на него смотреть. Петр мялся в дверях. Рубашка на нем была чистая, и всегда торчавшие в разные стороны вихры были кое-как приглажены – или так казалось из-за того, что они намокли под дождем, но левый глаз был еще мутным, и под глазом лиловела шишка.
– Ну, что встал? – наконец спросила Олеся Иванна. – Заходи, не стесняйся.
– Да я так… – пробормотал Петр и искоса посмотрел на Комарову.
– Заходи, заходи, – поторопила Олеся Иванна. – Только если ты опять ругаться пришел…
– Да я так, ничего… – повторил Петр, зашел в магазин и тихо прикрыл за собой дверь.
– Олесь Иванна, можно я на склад пойду?
– Иди, Катя, иди… там макароны с тушенкой в кастрюле на столе. Иди поешь.
Комарова спрыгнула со своей табуретки.
Олеся Иванна наклонилась вперед, не спуская глаз с Петра:
– Ну?
Петр почесал затылок, отчего волосы у него опять взъерошились:
– Кончать с этим надо. Оксанка узнает, плохо будет.
– Так ты сам ей и скажи, – усмехнулась Олеся Иванна.
Петр помолчал, размышляя, шутит она или всерьез, осторожно спросил:
– Ты чего это?
– А что я? Я-то что? Чуть что – ты ко мне бежишь, а как «Оксанка узнает» – так все, до свидания, катися колбасой…
– Олеся, да чего ты?! – Петр начал сердиться. – Погодим немного, она успокоится…
– «Погодим»! – передразнила Олеся Иванна и снова усмехнулась, и Петру ее лицо от этого вдруг показалось некрасивым. – Я тебе что? Я на дороге найденная?
Комарова поковыряла вилкой слипшиеся макароны. Есть не хотелось. На складе было пыльно, и на ящиках у стен сидели в пыли большие пауки с тонкими ногами. Комарова отломила от засохшего в вазе букетика травинку, подошла к нижнему ящику, присела на корточки и потыкала одного из пауков. Паук приподнял ногу, но с места не сдвинулся.
– Глупый, – сказала Комарова и почесала ему травинкой спину.
Паук прополз пару сантиметров и снова замер.
– Глупый, – повторила Комарова. – Чего ты тут сидишь? Познакомился бы с кем-нибудь… там девушки на улице. Ну чего ты?
Она села на пол, прижалась щекой к углу ящика и стала рассматривать паука. Ленка их очень боялась – один раз на нее упал в туалете крестовик, и она выскочила во двор с задранной юбкой и голой жопой, а потом не спала всю ночь и приставала к Комаровой, чтобы та поискала у нее в волосах. У этого были короткие крепкие лапы, покрытые редким коричневатым мехом, и брюшко, тоже все покрытое короткими волосками. Комарова осторожно подула на него, и паук повернулся к ней мордой. На морде у него было несколько глазок-бусинок, смотревших в разные стороны: два покрупнее спереди, две пары поменьше по бокам.
– Красавец мужчина, – сказала пауку Комарова. – Шел бы погулять.
– Олеся, ну чего ты?
Олеся Иванна не отвечала и смотрела куда-то сквозь Петра. И правда, не такая уж она красивая. Одеться умеет и причипуриться – это да. И немолодая уже. В ней всего-то хорошего, что безотказная.
– Слушай, Олеся… – примирительно сказал Петр. – Ну тебе что, подождать-то немного… А ты на что рассчитывала?
– Я-то?! – вскинулась Олеся. – Я-то?! Я-то ни на что не рассчитывала! Я тебя сюда звала? Ты зачем сюда приперся?
– Поговорить хотел, думал, может, вразумишься! Да что с тобой разговаривать! Ты же по-человечески не понимаешь! – Петр в сердцах сплюнул на пол и растер плевок ногой.
– А ты не плюйся! Плеваться он сюда пришел!
– Скажи спасибо, что в рожу тебе не плюнул.
– Ну спасибо! – Голос Олеси Иванны задрожал. – Большое тебе спасибо, Петенька, что в рожу мне не плюнул! Иди уже отсюда, еще люди увидят…
– А то они не видят! А то я один у тебя такой!
Олеся Иванна отшатнулась, и ее лицо залилось густой краской.
– Что? Что ты такое сказал?
– А что слышала! Шалава ты, шалава и есть.
Олеся Иванна дернулась было, чтобы схватить Петра за растрепанные вихры и дернуть как следует, чтобы знал, но вместо этого закрыла лицо руками, уронила голову на прилавок и разрыдалась.
– Ну, чего ты теперь? – хмуро спросил Петр.
Олеся только молча мотнула головой.
– Да чего ты все кобенишься, Олеська? Что тебе больше всех надо-то?
– Иди уже… люди увидят… – глухо повторила Олеся.
– Да ну тебя!
Петр еще некоторое время смотрел на нее, не зная, что добавить, потом отвернулся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Олеся Иванна подняла зареванное лицо, посмотрела на дверь, тихонько поскрипывавшую от ветра, снова опустила голову на сложенные руки и заплакала беззвучно, только изредка всхлипывая.
В один из последних дней прошлого августа Петр привез продукты поздно, совсем под вечер – Олеся Иванна уже давно закрыла магазин и прибиралась на складе. Он перетаскал на склад ящики, потом встал в дверях, вытер взмокший лоб ладонью и взъерошил волосы.
– Красивый ты парень, Петя, – усмехнулась Олеся Иванна. – Жаль, не холостой.
Петр улыбнулся, спорить не стал: сам знал, что красивый.
– Поесть хочешь? У меня картошка с сосисками осталась с обеда.
– Давай, что ли… Оксанка все равно не покормит.
Петр говорил, а сам без стеснения любовался Олесей Иванной – она привыкла, что ею так любуются, но было приятно, что это именно Петр, который нравился всем женщинам в поселке, а достался почему-то неряхе и злыдне Оксанке. И ей казалось, что если Петр Оксанке изменяет, то этим в мир возвращается какая-то справедливость. Она быстро собрала на стол и поставила Петру стопку водки.
– Да я же за рулем, куда мне! – весело сказал он, выпил залпом и налил вторую.
Олеся Иванна с улыбкой покачала головой.
– Ну, чего ты там стала, Олеся?
– Да так… на тебя смотрю.
– Чего на меня смотреть? – Петр подмигнул. – Мы с тобой что, в музее? Подойди лучше.
Олеся Иванна, улыбаясь, подошла, и Петр ловко обхватил ее за талию и притянул к себе.
– Что ты, Петя! Нельзя же!
– Чего тебе нельзя? Ну-ка…
– Олеся Иванна, вы чего? Случилось что-то?
Олеся Иванна подняла голову, вытерла слезы, отчего от глаз протянулись по лицу две темные полосы туши, громко шмыгнула носом.
– Да я ничего, Катя.
– Обидел он вас, что ли?
Олеся Иванна не ответила.
– Дурак он, Олеся Иванна. Вы его не слушайте.
– Ничего, Катя. – Олеся Иванна снова шмыгнула носом. – Это ничего…
Комарова снова уселась на табуретку. Врет все бабка Женька, что Олеся Иванна людей паленой водкой травит. Иногда и от хорошей водки можно отравиться: батин друг, например, дядя Гена, так позапрошлым летом и отравился. Батя пришел в тот день раньше обычного и сказал матери, что Генка сошел с ума и топором рубит стены своего дома. Мать перепугалась, побежала к соседям за помощью, но, когда они пришли к дяде Гене, он уже лежал на полу мертвый и весь рот у него был в пене. Комаровы тогда очень плакали: дядя Гена был добрый и, приходя к ним домой, всегда приносил конфеты или, если было лето, набирал по чужим огородам ягод и неспелых слив. И потом после его смерти тоже долго говорили, что это он у Олеси Иванны взял паленой водки и от нее умер.
– Зря ты отсюда уезжать не хочешь, – сказала Олеся Иванна. – Здесь тоска.
Комарова пожала плечами:
– Ничего, мне нормально.
– Это ты сейчас так говоришь.
– Хотите, мы ему все окна свиным навозом вымажем?
– Да ты что! – испугалась Олеся Иванна и неожиданно для самой себя развеселилась. – Зачем навозом?
– Нам бабка говорила, в старину так делали. Чтобы знал.
К концу рабочего дня притащилась Ленка; она где-то сорвала громадный лист лопуха и прикрыла им голову, но дождь просочился через дыры в листе, и волосы все равно вымокли, и в них застряли травинки, похожие на зеленые пряди. Рана на Ленкиной башке уже заживала и была покрыта желтоватой корочкой, которую Ленка постоянно колупала и получала за это по рукам от матери и от старшей сестры. Матери сказали, что Ленка упала с крыльца и расшибла о ступени голову; мать не стала расспрашивать, только хлестнула Ленку и заодно Комарову мокрым полотенцем по голым ногам.
– У меня вон чё… – сообщила Ленка и положила прямо на прилавок большой сверток из промасленной бумаги.
У Комаровой похолодели ладони.
– Опять что-то сперла?
– И ничего я не сперла, – обиделась Ленка. – Это мне тетя Таня дала.
– Шустрая у тебя сестра, – усмехнулась Олеся Иванна. – Ей бы в городе жить.
– Я в город и хочу уехать, – сказала Ленка.
– А по жопе ты не хочешь? – для порядка спросила Комарова. – Это у тебя что?
– Утопленники.
– Совсем, что ли, сдурела?
– Это печенье такое, – пояснила Ленка важно, довольная, что знает больше сестры. – Потому что тесто для них в воде топят, потому и утопленники, мне тетя Таня рассказала. Они вкусные очень. Вы, Олеся Иванна, хотите?
Олеся Иванна отрицательно покачала головой.
– Тут много, а я ела уже. Это для всех наших. – Ленка приоткрыла пакет и заглянула внутрь. – Они есть обычные, есть с вареньем. Кать, ты будешь?
Комарова запустила руку в пакет, вытащила конвертик, посыпанный сахаром, и надкусила – тесто было нежное и таяло во рту.
– Ну чё, как? – поинтересовалась Ленка.
– Достала ты со своим «чё»…
– Вкуснющие они. Наша бабка про такие говорила, что прямо как из ресторана…
Утром Комарова, собираясь на работу, сказала Ленке сидеть дома и присматривать за мелкими. Ленка и присматривала: все утро мелкие проспали, только Саня один раз проснулся и попросился по-маленькому, и Ленка проводила его до нижней ступеньки крыльца, а потом – обратно до кровати. А Анька, которую мать называла зассыхой, ни разу даже не проснулась – Ленка подумала, что Анька надула под себя и проснется, только когда от мокроты замерзнет, но проверять не стала. Потом Ленка побродила по дому, от нечего делать подмела прихожую, скурила припасенную Комаровой со вчерашнего вечера самокрутку, наконец совсем заскучала, оделась, причесалась и потихоньку выскользнула из дому.
К Татьяне она вообще-то не собиралась, но шел дождь, и на улице никого не было – Ленка надеялась встретить хотя бы Светку, чтобы обозвать ее крысой и бросить ей в волосы репьев (она даже нарвала их заранее и держала в кулаке), но Светка то ли сидела дома, то ли уже уехала в город. От скуки Ленка дошла до пожарки, где они с сестрой выкапывали топинамбур – он давным-давно отцвел, и на раскисшей земле лежали продолговатые зазубренные листья. Она присела на корточки и поковыряла пальцами землю – клубни топинамбура побурели и были изъедены жучком.
– Фу ты… – сказала Ленка вслух и поежилась от сырости.
Было очень тихо, только на обрывках толя, свисавших со стен пожарки, собирались крупные капли и падали в траву, как будто спрыгивал большой кузнечик или лягушка. Ленка побродила вокруг пожарки, подумала, что нужно бы вернуться домой, махнула рукой и побрела к вздувшейся от осенних дождей реке.
– Подожди, я тебе дам звону. – Комарова сжала кулак и поднесла к Ленкиному носу. – Это вот видела?
– Да чё ты, Кать… – Ленка уставилась на кулак, но отодвигаться не стала. – Они там без меня справились, их пятеро человек… чё им?
– Дуй домой давай. Вечером поговорим.
Ленка пожала плечами, взяла с прилавка свой сверток и бережно подвернула края бумаги.
– И чтоб никуда по пути не заходила… прямо домой чтоб шла. Все понятно?
– Да понятно… чё тут непонятного… до свидания, Олесь Иванна.
– До свидания, Лена… Строгая ты с сестрой, – усмехнулась Олеся Иванна, когда Ленка закрыла за собой дверь.
– Вы бы пожили с ней недельку.
Комарова вспомнила, как Ленка утащила Светкины трусы, и пожалела, что постеснялась дать ей при Олесе Иванне затрещину.
– Ты бы, Катя, тоже домой шла. Все равно ведь нет работы.
– Ничего, я до вечера побуду.
– Ну, как хочешь.
Олеся Иванна посидела немного, потом сходила на склад, принесла оттуда две красненькие жестяные банки и протянула одну Комаровой:
– На вот.
– Чего это?
– Это мне один ухажер из города привез.
Олеся Иванна взяла из рук Комаровой банку, ловко поддела ногтем ключ и дернула вверх. Банка зашипела, и над крышкой поднялся легкий дымок.
– На, попробуй. – Олеся Иванна вернула банку Комаровой.
Комарова понюхала выходивший из банки дымок – пахло немного похоже на растворимый кофе, – потом зажмурилась, сделала большой глоток и закашлялась.
– Ну как?
– Ничего… – На глаза Комаровой навернулись слезы. – Вроде как кошка за язык лижет. А у вас еще есть? Я для Ленки.
– Поищем – найдется. – Олеся Иванна протянула ей свою банку. – Бери, бери, мне не нужно.
Комарова нерешительно взяла банку и сунула в глубокий карман платья.
– Точно не нужно?
– Точно. Мне и ухажер этот совсем не нравится.
Олеся Иванна отвернулась и посмотрела в давно не мытое окно, из которого видно было желтеющее поле и полоску дороги. Когда в сухую погоду по этой дороге проезжали редкие машины или катилась цыганская телега, пыль поднималась густыми облаками и мелкие ребятишки, игравшие на улице, бросались в эти облака с радостными криками и размахивая руками. Маленькой Олеся Иванна тоже бегала через дорогу – машины тогда ездили еще реже, дай бог проедет две-три за весь день. Она вздохнула.
Дверь магазина широко открылась, и зашли Антон Босой, Стас и Каринка с Дашкой.
– Будьте здоровы, Олесь Иванна. Что, скучаете?
– Так дождит весь день… тут заскучаешь.
– А вы не скучайте. – Антон подмигнул Комаровой. – Дайте нам сыра грамм триста, семечек пару кульков и восемь бутылок «девятки».
– Куда тебе столько? – удивилась Олеся Иванна.
– Нас еще друзья на улице ждут. – Босой снова подмигнул Комаровой.
Олеся Иванна обернулась:
– Катя, я же тебя просила на складе прибраться, ты что тут сидишь?
Комарова поспешно спрыгнула с табуретки, чуть ее не уронив.
– Я потом приду, проверю, – донесся до нее голос Олеси Иванны.
Она не стала включать на складе свет, дошла в потемках до стоящего у стены дивана, забралась на него с ногами и на некоторое время замерла, крепко обхватив колени и низко нагнув голову. Было слышно, как Олеся Иванна щелкает кассой, потом Каринка с Дашкой чему-то засмеялись.
– Только семечки возле магазина не лузгайте, – говорила Олеся Иванна. – Дрянь ваши семечки, хуже папирос, и на зубах от них щербины.
– Хорошо напомнили, Олесь Иванна! «Беломора» дайте пачечку.
– Куда тебе еще? Ну?
Комарова запустила пальцы в волосы, сгребла несколько прядей и потянула.
– Для здоровья полезно! И спичек коробок! И пива…
– Это ты сказал уже. Восемь бутылок. Восемь бутылок «девятки», семечек пару кульков… Ну, что еще?
Комарова тихо, стараясь не произвести никакого шума, слезла с дивана, на цыпочках прошла к задней двери, медленно открыла и, сперва осмотревшись, вышла на улицу. Дождь стал сильнее, и казалось, между небом и землей протянулось множество тонких прозрачных нитей. Она поводила перед собой в воздухе раскрытой ладонью: нити рвались, но тут же соединялись снова, как будто их сшивала невидимая иголка. Комарова прошла по мокрому от дождя полю, вышла на раскисшую дорогу и побрела по обочине к дому.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Когда дул ветер, поле начинало дышать, как живое, поднимаясь и опадая разноцветными волнами васильков, иван-чая и желтого донника, запах которого до того переполнял воздух, что он казался густым и упругим, как парное молоко. Комарова приставила ко лбу раскрытую ладонь и сощурилась: солнце, краснея, медленно утекало за горизонт, и дневной жар уступал духоте июльской ночи. Вдалеке вспорхнула потревоженная чем-то птица, и было видно, как она летает кругами над петляющей в траве дорогой. Ленка раскусила семечку, сплюнула на землю шелуху и дернула головой в сторону дороги.
– Это мне чё говорили… по этой дороге можно до самых Мин дойти.
– Мины в другой стороне.
Ленка щелкнула еще несколько семечек, прежде чем ответить.
– Не, в той. Точно в той. Туда вон, – Ленка махнула рукой, – только лес до самой Луги. Там на прошлой неделе дачники заблудились, четыре дня плутали, их там комары насмерть зажрали.
– И чё?
– Ну, чё… были бы там Мины, они бы на Мины вышли, чё… А там лес только.
– Хватит уже семки лузгать.
– А чё? – удивилась Ленка.
– Ничё. Зубов не будет.
Ленка поглядела на свернутый из газеты кулек, полный семечек, пошурудила в нем грязным пальцем.
– Да чё ты… все ж лузгают.
Комарова отвернулась. Ей хотелось сказать, что Ленка – дура, но вместо этого она поджала губы и промолчала: Ленке и так сегодня утром попало от матери за то, что она, вымыв пол, бросила грязную тряпку посреди коридора, и Олька со Светкой, играя, завернули в эту тряпку Саню. Дура Ленка. Она этих Мин в глаза не видела и вообще дальше магазина никуда не ходила, а туда же.
– А ты не лузгай. – все-таки сказала Комарова. – В город поедешь, там все сразу поймут, что ты из деревни.
– А у них там чё, в городе, семок нет?
– Нету. – отрезала Комарова.
Ленка помолчала немного, потом спросила:
– Как думаешь, наши спят уже?..
– Не знаю. Мелкие точно спят.
Комарова подумала про Саню – он был из всех братьев и сестер самый младший, самый слабый и у них с Ленкой – самый любимый, хотя Ленка, когда Саня поперхнулся гречкой с молоком, и вареная гречка полетела вместе с соплями у него из носа, сильно смеялась и потом много раз ему вспоминала – мол, помнишь, Санька, как ты гречкой сморкался? А Санька не понимал и только хлопал глазами – ничего он не помнил, он и слова-то такого – «гречка» еще произнести не мог, потому что плохо выговаривал букву «р».
– Влетит нам. – мрачно сказала Ленка.
– Ничё, не боись. Может, еще мимо пролетит.
Тут Ленка была права – скорее всего, именно что влетит. Комарова задумчиво почесала лоб шершавыми от постоянного грызения ногтями. Вдалеке из-за колышущихся трав показалась невысокая фигура в черной рясе. Полы рясы развевались на ветру. Одной рукой священник придерживал скуфью, хотя ветер был совсем не таким сильным, чтобы сорвать ее с головы, в другой нес платок, уголки которого были связаны, так что получился большой неудобный узел, путавшийся в складках одежды и мешавший священнику идти.
– Отец Сергий! – заорала Ленка, подпрыгнула и замахала рукой. – Отец Сергий! Дядя Сережа! Здра-а-сьте!
– Чё ты голосишь? Не слышит он тебя.
– Отец Серги-ий! Здра-а-сьте!
Священник отпустил скуфью и помахал в ответ; скуфья тут же слетела у него с головы: он наклонился, ища ее в траве, и на некоторое время скрылся из виду.
– Дура. – сказала Комарова.
– Да я-то чё?
– Да ничё. Дура просто.
Сергий наконец нашел свою скуфью и выпрямился.
– Отец Сергий! – снова закричала Ленка. – Вы с Мин идете?!
Боясь снова потерять скуфью, Сергий пожал плечами и отрицательно покачал головой.
– Говорю же, не слышит он тебя. Подожди, пока ближе подойдет.
Ленка запустила руку в свой кулек и нетерпеливо залузгала одну семечку за другой, сплевывая на землю. Солнце скрылось уже на две трети, и краски в поле стали блекнуть, отступая перед сумерками. С обеих сторон вдоль поля, насколько хватало взгляда, тянулся лес, и казалось, будто он обнимает все поле кольцом: глупые городские думали, что до него можно легко дойти, не зная, что справа поле перерезано речкой, которая, несколько раз петляя, впадала где-то далеко среди полей в Оредеж, а слева – длинным и глубоким оврагом, на дне которого в дождливое время журчал ручей. В овраге были непролазные заросли ольхи и по слухам водились змеи, так что поселковые туда не совались. Единственная дорога, петлявшая через поле, шла вдоль речки, то приближаясь к ней, то отдаляясь, и можно было дойти до второго плеса, где дно было усеяно мелким песком и перламутровыми осколками ракушек, которые дети собирали, хранили как сокровища и выменивали на их россыпи вкладыши от «лав из» и наклейки с героями мультиков. Говорили, дальше есть еще третий плес, но Комаровы никогда до него не доходили.
Старшая Комарова, которую все в поселке звали либо по фамилии, либо просто Комарицей, вздохнула. Нифига эта Ленка не понимает, – а еще сестра, называется. Только семки лузгать и глупости болтать. Темнеющее поле колыхалось, и казалось, что если хорошенько разбежаться, взмахнуть руками и прыгнуть в него, то можно медленно поплыть над землей, покачиваясь на разноцветных травах. Однажды Комарова так и сделала: махнула с разбегу в поле, но мягкая овсяница и жесткая ежа не удержали ее, и она ударилась коленями о землю так сильно, что несколько дней после этого хромала, и Ленке приходилось одной таскать тяжелые ведра от колодца и мести пол. И теперь хотелось снова разбежаться и прыгнуть, хотя она и тогда знала, что травы ее не выдержат, и она обязательно расшибется, а все равно прыгнуть хотелось: прыгнуть и поплыть над землей, вдыхая запах донника и пачкая нос в липучей желтой пыльце, а еще лучше – лежа на спине, как она иногда плавала в речке, – просто плыть, не двигая руками и ногами, и смотреть на синее, как материна любимая эмалированная кастрюля, июльское небо.
– Чё он так медленно? – Ленка сощурилась – сумерки сгущались все быстрее – и щелкнула очередную семечку.
– Не всем же бегать, как ты.
– И ничё я не бегаю. – обиделась Ленка.
– Бегаешь. Завтра полоскать со мной пойдешь на речку.
– Ну, Ка-ать… – плаксивым голосом завела было Ленка.
– Пойдешь как миленькая. – отрезала Комарова.
– Чё все я-то?
– А кому еще?
– Да чё я-то все… то воду Ленка принеси, то на речку Ленка иди… то Ленка с мелкими сиди. Ленка все и Ленка, других будто нет.
Она надулась и примолкла. Хорошо, не разревелась. Комарова достала из кармана спичечный коробок и самокрутку, помяла самокрутку в пальцах, подправила отошедший краешек, чиркнула спичкой и закурила. Ленка, уставившись в землю, ковыряла носком сандалии куртинку подорожника. Комарова отпустила бы ее, и сама бы с удовольствием пробегала весь день по Поселку с другими ребятами, но не Ольку же со Светкой оставить помогать матери: пол они еще кое-как протрут, но на речку им еще нельзя – мелкие, кувырнутся в воду и привет. А Ваня – единственный кроме Сани их брат – бегает целыми днями по Поселку, они его и дома-то не видят, а бабка Женя называет его «беспризорником» и говорит, что, когда он подрастет, он будет хуже Антошки Босого. Комарова слишком глубоко затянулась и закашлялась.
– Раба Божия Екатерина, курить – грех.
Вынырнувший из поля отец Сергий дышал сбивчиво после долгой ходьбы и улыбался в короткую рыжеватую бороду. Увидев Комарову с самокруткой, он всегда говорил одно и то же, и Комарова всегда задавала ему один и тот же вопрос, чтобы услышать от Сергия очередное объяснение, которое он каждый раз придумывал заново.
– Почему это грех?
– Потому что курить людей научил черт, которого выгнали за какую-то провинность из преисподней. Ему было обидно, что все узнавали его, потому что изо рта и из носа у него шел серный дым, вот он и придумал выращивать табак и набивать им папиросы, чтобы все вокруг дымили, и никто его не узнавал.
Комарова еще раз затянулась, задержала ароматный дым во рту и выдохнула его двумя тонкими струйками через ноздри.
– Так он что, так теперь и бродит среди людей, черт ваш?
– Так и бродит. – кивнул священник. – Все же курят, никто его и не узнает.
– Отец Сергий, а семечки лузгать – не грех? – встряла Ленка.
Сергий задумался, и Ленка, не дожидаясь ответа, добавила:
– Вы с Мин идете?
– С Мин. Вот…
Он приподнял повыше завязанный в узел платок.
– Сметаны домашней и варенья возьмете?
– Да ну, дядя Серёжа, вы чего... зачем это… – сказала было старшая Комарова, но Ленка, поднявшаяся на цыпочки и уже пытавшаяся заглянуть в узел, ее перебила:
– А варенье какое?
– Черная смородина, кажется… – Сергий положил узел на траву и развязал.
Там оказалась литровая банка варенья, маленькая банка меду, большая пластиковая бутылка со сметаной, завернутый в полиэтиленовый пакет заводской хлеб, несколько пучков зелени и еще один небольшой узел из старой ткани.
– Ну что, возьмете?
Комарова мялась. Ей было неудобно, что отец Сергий тащил все это от самых Мин, да и, к тому же, ушел-то он туда, наверное, еще до рассвета.
– Вы крестить в Мины ходили? – спросила она.
Сергий покачал головой и ответил коротко:
– Хоронили.
Потом подумал немного и добавил:
– В деревнях и рожать-то особенно некому. Одни старики.
Комаровы смотрели на Сергия, ожидая, что он пожалуется, что раньше эти старики почти все стояли за советскую власть и сами выгоняли и били священников и оборудовали церкви под склады, а теперь, когда советская власть давно кончилась и жизнь их стала клониться к закату, они вдруг вспомнили о Боге и, чуть только почувствуют приближение смерти, посылают кого-нибудь на станцию, где есть телефон, и вызывают из Поселка священника, чтобы исповедаться, а на исповеди все равно половину врут, по старой привычке считая всех священников доносчиками. Он часто так спорил с комаровской бабкой Марьей, когда та была еще жива: бабка ругала Сергия дураком и говорила, что она, когда будет помирать, ни за что его не позовет и пусть он катится к черту вместе со своим Богом. А когда помирала – все равно позвала. Сергий молча смотрел на разложенные на платке банки и свертки.
– Ну, что? Возьмете что-нибудь? Хоть вот варенья или меда.
– Да ну, неловко… – протянула Комарова, но Ленка ее перебила:
– Да чё? У отца Сергия все равно детей нет, некому варенье есть. Правильно я говорю, батюшка? А нам…
Комарова несильно толкнула Ленку в бок: та ойкнула, дернулась и просыпала на землю семечки.
– Ну, блин, Катя! Чё ты?!
– Язык свой дурацкий держи за зубами!
– Да чё я такого сказала?
– Да ничё!
Комарова попыталась схватить Ленку за волосы, но та ловко отскочила, круталась на одной ноге и высунула язык.
– Не поймаешь, руки коротки!
– Девочки, не ссорьтесь! – испугался Сергий. – Возьмите и варенье, и мед тоже – нам с Татьяной правда не съесть, у нас и свое есть, и люди приносят.
Комарова быстро наклонилась, притушила самокрутку о землю, сунула ее в карман и нерешительно взяла банки.
– Спасибо вам, дядя Сережа.
– И сметану возьмите! – Сергий, видя, что у Комаровой руки уже заняты, отдал Ленке пластиковую бутылку со сметаной, потом взял маленький сверток и тоже отдал ей. Комарова открыла было рот, чтобы сказать, что это уже ни в какие ворота, но Ленка ухватила и бутылку, и сверток, и прижала к груди так крепко, что в свертке что-то хрустнуло.
– Осторожнее, раба Божия Елена…
– Дядя Сережа, вам же ведь почти ничего не осталось…
– Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. – серьезно ответил Сергий.
Ленка фыркнула, но Комарова показала ей кулак, и она притихла.
– Спасибо вам большое, – повторила Комарова, – но все-таки неловко… ты-то хоть скажи спасибо, а…
– Спасибо вам большое, дядя Сережа! – послушно повторила Ленка.
Сергий завязал свой платок и зашагал по дороге в сторону Поселка. Комаровы увязались следом.
– Девочки, а вам не поздно? Наталья Николаевна ругаться не будет?
– Не будет, чё… – ответила Ленка, и Комарова услышала, как она на ходу сплюнула шелуху. – Чё ей?
Солнце уже и правда целиком уползло за горизонт, и Поселок погрузился в темноту, прореженную светом окон и фонарей, горевших через один вдоль центральной дороги. В пятнах света вокруг фонарей мельтешили насекомые. Сергий шел быстро и против обыкновения молча, только время от времени останавливался и перекладывал сильно полегчавший узел из руки в руку. Его длинные рыжеватые волосы растрепались и липли к вспотевшему лбу, и про себя он радовался, что этого не видно в наступавшей ночи, потому что священнику нужно во всякое время выглядеть опрятно. Так, по крайней мере, всегда говорил Сергию отец Александр, прибавляя к этому пожеланию какое-нибудь крепкое слово. Сергий остановился, чтобы перевести дух, и провел ладонью по влажному лбу. Уж кто-кто, а отец Александр опрятностью не отличался, и прихожане, когда он читал в церкви, вместо того, чтобы слушать из книг житий святых, обыкновенно рассматривали сухие травинки, застрявшие в его нечесаной бороде. Царствие ему небесное.
– А вам самим не страшно в такую темень домой идти?
– А чо нам? – Ленка шмыгнула носом, и Комаровой снова захотелось пихнуть ее или дать подзатыльник. – Мы ж привыкшие… мы чуть не каждый день так ходим.
– Врет она все. – не выдержала Комарова. – Никуда мы по ночам не ходим.
– Служба начинается в девять утра. – невпопад ответил Сергий и снова замолчал.
Комаровы на утренней службе почти никогда не появлялись: только старшая иногда забегала по пути от Ирины Терентьевны, у которой Комаровы брали коровье молоко, потому что их две козы давали слишком мало на семерых человек детей. Однажды Комарова поставила бидон с молоком у стены, и глупая церковная кошка Васька, почуяв запах, сдвинула с бидона крышку, сунула внутрь морду, застряла, перепугалась и опрокинула бидон, разлив все по полу. Вспомнив, как старшая Комарова ловила метавшуюся в церковном притворе кошку и как потом извинялась, угрюмо глядя в пол и краснея, Сергий улыбнулся.
– Ну вот, дядя Сережа… вам налево, а нам дальше прямо.
Сергий остановился и растерянно огляделся. Если бы не Комарова, он бы прошел в темноте свой поворот, и пришлось бы делать крюк и идти мимо церкви, которая еще и стоит на пригорке. А Татьяна его, наверное, и так уже заждалась: обещал быть к ужину, а тут…
– Ну, тогда с Богом.
Сергий осторожно опустил узел с продуктами на землю, выпрямился и не спеша перекрестил сначала Ленку, потом Комарову, и погладил ее ладонью по голове.
– Чего, сильно растрепалась? – спросила Комарова.
Сергий еще раз провел рукой по ее волосам.
– Вы все-таки приходите в церковь помолиться, девочки. Молитва – телу крепость и духу благоденствие, и всякому недугу исцеление.
Ленка тихонько фыркнула: ей всегда делалось смешно, когда Сергий начинал говорить так непонятно, – еще он при этом смотрел обычно куда-то вверх, и лицо его становилось задумчивым, как у школьника, который пытается решить трудный пример.
– Ну, до свидания, идите с Богом.
– До свидания, дядя Сережа. – почти хором сказали Комаровы. – Спасибо вам большое!
– Ты чё, Кать?
Комарова стояла, глядя вслед отцу Сергию, уже скрывшемуся за поворотом спускавшейся к реке боковой дороги.
– Да так, ничего. – она пожала плечами, и банки, которые она держала в руках, тихо звякнули друг об друга. – Ничё.
В траве зашелестело, и Ленка ойкнула и шарахнулась в сторону, чуть не уронив свой сверток. Через дорогу, прижимаясь к земле, быстро перебежала кошка. Ленка выдохнула и переступила с ноги на ногу.
– Не черная, не?
Комарова пожала плечами.
– Вроде, не черная… в такой темноте не поймешь.
– Поздно уже… – Ленка повернулась и побрела в сторону дома. – Батюшка прав, мать нас если поймает, звону даст.
Комарова шагала, крепко сжав губы. Изредка под ноги попадались небольшие камешки: она отбрасывала их, и камешки с тихим стуком откатывались к обочине. Несмотря на поздний час, было душно, и этот тихий стук и изредка – шуршание в траве – были единственными звуками, раздававшимися в душной темноте. Дура Ленка, сама шляется бог знает где допоздна, ищи ее по всему Поселку, а потом – мать звону даст. Комарова не хуже ее знала, что даст, и ей достанется всяко больше, чем Ленке, потому что Комарова старшая. Она шмыгнула носом и с силой пнула подвернувшийся камешек: он запрыгал по дороге, как живой, и с тихим шорохом укатился в придорожную канаву.
– Ты чё, Кать?
– Ничего. Ты бы меньше по всему Поселку болталась.
– Ну чё ты опять заладила… и совсем я не по всему Поселку болтаюсь.
– Болтаешься, как беспризорная. – Комарова сплюнула. – Как будто дел у тебя нет.
– Ну, Ка-ать…
– Теперь – ну, Ка-ать… болтаешься… – она хотела сказать что-нибудь обидное, но ничего обидного в голову не приходило, и Комарова помолчала немного и добавила: – Через окно полезем.
– Прям с этим вот всем? – удивилась Ленка. – Да как?
– Уж как-нибудь.
– Да ладно, Кать… может, не надо?..
Ленка боялась лазить через окно, потому что была слабее старшей сестры и ниже ее почти на голову, и когда прошлым летом они в первый раз решили лезть через окно, чтобы не попасться на глаза матери или бате, Ленка упала и разбила нос. Потом они пошли к колодцу, потихоньку, чтобы не звенеть цепью, подняли ведро воды и долго стояли, ежась от холода, и плескали ледяной водой Ленке на лицо, и Комарова осторожно ощупывала занемевшими пальцами ее нос, но нос распух и было непонятно, сломан он или нет, и только наутро выяснилось, что все-таки не сломан.
– Нет уж, надо. – твердо сказала Комарова и добавила: – Ты не бойся, на этот раз не попадемся.
Ленка в ответ только цыкнула зубом: Комарова посмотрела на ее мелькавшие в темноте бледные ноги, на которых в свете фонарей становились видны свежие ссадины с запекшейся кровью. Что ей, правда, дома не сидится? Прошлым летом Ленка выпросила у дачницы Светки, приезжавшей каждое лето к своей тетке и жившей через четыре дома от Комаровых, велосипед: за хорошие отметки в году родители купили Светке «Аиста» со светло-голубой рамой и ярко-оранжевыми катафотами на колесных спицах. Как Ленке удалось уговорить Светку дать ей покататься, Комарова так и не поняла, но только Ленка, проехавшись по центральной дороге, свернула к реке и решила скатиться на велосипеде по уходящей вниз узкой тропинке, по которой обычно спускались к мосткам полоскать белье. Велосипед, разогнавшись на уклоне, вылетел на длинный мосток, проехал по нему несколько метров и ухнул в воду вместе с Ленкой, которая отделалась испугом и разбитой об край мостка коленкой. Велосипед потом достать так и не получилось, и Светкина тетка бегала к комаровской матери и орала, чтобы Комаровы отдали за утопленный велосипед деньги, и что если не отдадут деньги, то она заявит на них в милицию, но мать денег не отдала и пригрозила выцарапать светкиной тетке глаза, если она снова явится со своим дурацким велосипедом. Ленке тогда от матери даже и не влетело: к разбитой ноге мать примотала ей бинтом капустный лист, чтобы не загноилось, и заставила несколько дней сидеть дома, а Ленка, когда нога чуть зажила, снова побежала искать на свою жопу приключений. Полезет теперь в окно, как миленькая. Комарова снова сплюнула в темноту, – больше не потому, что хотелось, а чтобы посильнее разозлиться на младшую сестру.
Сегодня днем она нашла Ленку возле универмага рядом со станцией: та была в компании четверых ребят. Троих Комарова знала: это была Светка, Светкин парень Павлик – из поселковых, и Светкина подруга Наташка – глупая и вся в веснушках. Комаровы эту Наташку не любили и не задирали только потому, что она тоже была из местных, и у нее была злая крикливая мать, которая могла, если что, поймать и огреть по ногам хворостиной. Четвертый был незнакомый белобрысый мальчик чуть старше Комаровой – или он только казался старше из-за того, что был тощий и длинный, и одет был, несмотря на жару, в джинсы и рубашку с длинным рукавом. Все пятеро были заняты рассматриванием вкладышей от жвачек и Комарову заметили не сразу.
– Ты чего тут забыла? – Комарова подошла к Ленке почти вплотную и дернула ее за рукав. – Опять от матери по жопе захотела? Сегодня утром тебе мало было?
– Да ладно, Кать… ты чо… – Ленка против обыкновения смутилась. – Нам Костик жувачек на всех взял.
Комарова хмуро взглянула на высокого мальчика.
– А тебя кто просил?
Костик растерянно развел руками.
– Да я так… а что тут такого-то?
– А ничего тут такого! Тоже мне, миллионер нашелся!
– Да ладно, Комарица, что ты сегодня такая злая? – встряла Светка. – Хочешь тоже жвачку?
Она протянула Комаровой пригоршню фантиков и вкладышей, среди которых лежали два кубика «Лав из» и синий прямоугольник «Турбо».
– На вот.
Комарова отпихнула Светкину руку и повернулась к Ленке.
– Отдай им все.
– Ну, Ка-ать, – заканючила было Ленка, но, встретившись с сестрой взглядом, быстро замолчала и протянула свои несколько фантиков Светке. Та забрала их и сунула в карман сарафана.
– Все отдала?
– Все. – Ленка шмыгнула носом. – Жувачку тоже выплюнуть?
– Чего уж… жуй уже.
Светка и Павлик молчали, опустив глаза, и ковыряли носками землю: Комарова сердито подумала, что даже в этом дурак Павлик обезьянничает со своей городской девчонки, которой не жалко своих новеньких босоножек, а вот Комаровых мать ругала, если они пинали камешки или ковыряли носками туфель землю. Она глянула исподлобья на Костика: тот глаз не опускал и землю не ковырял, только стоял молча и смотрел на Комарову то ли испуганно, то ли удивленно, и уши у него были красные, как будто он натер их вареной свеклой.
– Ладно уж, чего, не обижайся… – буркнула Комарова. – Не надо нам жувачек ваших, мы сами можем себе купить, не бедные.
– Понятно, что можете, – с готовностью ответил Костик. – Я же так только.
– Ну и хорошо, что так. Давайте, пора нам, у нас дело полно. – Комарова оглядела еще раз всю компанию, повернулась и быстро зашагала прочь. Ленка, махнув на прощание рукой, побежала за ней.
– А завтра придете?! – крикнула им вслед Наташка. – Мы на плотину собираемся! За станцию!
Комарова на это только пожала плечами, а когда Ленка попыталась что-то прокричать в ответ, дернула ее за рукав и потащила за собой. Дома Ленка подмела крыльцо и двор, больше, правда, подняв пыли, чем наведя чистоты, потом они отнесли Ирине Терентьевне пустой бидон под молоко, а на обратном пути Ленка заныла, что Комарова не дала ей даже чуть-чуть погулять и отобрала все вкладыши от жувачек, и они зашли в магазин к Олесе Иванне, взяли кулек семечек и дошли до самого поля. По-хорошему, Комарова сама была виновата – нечего было слушать мелкую, взяли бы семечек и пошли бы домой, пусть бы она их у себя в кровати под одеялом лузгала.
– Ну, и как полезем? – Ленка стояла на цыпочках на влажной траве и изо всех сил вытягивала шею, пытаясь заглянуть в окно их комнаты.
– Вот так и полезем. Ведра давай тащи.
Ленка тихо присвистнула, сложила на землю подарки от отца Сергия, и пропала в темноте. Лорд заворочался в своей конуре и зазвенел цепью, Комарова прижалась спиной к стене дома и прошептала: «Тихо, Лорд, свои, тихо». Сердце у нее колотилось так громко, что она испугалась, что его могут услышать в доме. Зря она все-таки это придумала – через окно лезть. Ленка возникла перед ней с двумя жестяными ведрами – одним совсем огромным и другим поменьше, которыми они таскали воду из колодца.
– Ну, чё?
– Чё-чё? Одно на другое теперь ставь.
– Да ты чё?
– А ты опять сорваться хочешь? Ставь давай. Только тихо.
Ленка осторожно поставила ведра друг на друга и покачала: вышло не очень устойчиво: из-за торчащей ручки верхнее ведро стояло косо.
– Ну, чё?
– Пойдет.
– Кать, ты уверена? – Ленка стояла, склонив голову набок, и выражение лица у нее было такое, как будто она вот-вот расплачется.
– Да пойдет, нормально… – сказала Комарова уверенно, и, глядя пристально на составленные ведра, трижды произнесла про себя: «Только не упадите, только не упадите, только не упадите». По-хорошему, это нужно было произнести вслух, и лучше всего – держась при этом за ведра рукой, тогда бы точно сработало, но вслух она этого говорить не хотела, чтобы не пугать Ленку.
– Ну, давай уже… хорош стоять.
– Как думаешь, а дядя Сережа тетю Таню любит? – спросила вдруг Ленка.
– Он же священник, – Комарова осторожно встала на нижнее ведро, выпрямилась, балансируя руками, и поставила ногу на верхнее. – Он Бога любит. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
– А чего это за слово? – не поняла Ленка.
– Бог, говорю же тебе. Бога он любит.
– А чего, если Бога любит, то тетю Таню ему любить нельзя?
– Помолчи уже, что ты заладила…
Она встала на цыпочки, ухватилась за подоконник, подтянулась и толкнула раскрытой ладонью шершавую оконную раму. Окно легко открылось, и Комарова, цепляясь за подоконник и косяк, как кошка вскарабкалась в комнату.
– Бог – это одно. – громким шепотом бубнила внизу Ленка. – А тетя Таня – другое. Они уже сколько? – десять лет вместе? Это ж ровно моя жизнь!» —она тоже осторожно забралась на ведра и протянула Комаровой один за другим подарки отца Сергия.
– Вон, наши-то родители…
– Да далось тебе это! – рассердилась Комарова. – Тебе какая разница, как другие люди живут?
– Так интересно!
– Нет тут ничего интересного. Лезь уже давай...
Ленка ухватилась обеими руками за подоконник и пыталась подтянуться, но у нее никак не получалось. Комарова высунулась в окно и, придерживаясь одной рукой за косяк, другой схватила Ленку за плечо и потянула изо всей силы. Ленка поставила правую ногу на округлое бревно стены и оттолкнулась левой, но тут ведра наконец потеряли равновесие и, громко лязгая одно об другое, покатились в сторону. Ленка, испуганно ойкнув, соскользнула вниз. Через мгновение Комарова услышала ее тихие всхлипывания.
Мать поймала их в коридоре: Комарова тащила за собой Ленку, окончательно разнюнившуюся и твердившую, что у нее, наверное, сломана рука. Наталья Николаевна, как звал ее в Поселке только отец Сергий (остальные называли коротко и неприязненно Натальей) стояла в проходе под тускло светившей лампочкой, уперев руки в боки, так что не было никакой возможности мимо нее проскочить, и молча смотрела на них, поджав и без того тонкие губы. В Поселке говорили, когда-то она была очень красивой: отец Комаровых привез ее города еще совсем молоденькой студенткой, но частые роды, тяжелая работа по дому и запойное пьянство мужа сделали свое дело: из веселой молодой женщины Наталья в свои неполные тридцать превратилась в измученную, сварливую, злую бабу, от которой шарахались даже поселковые.
– Так… – сказала наконец Наталья, теребя пальцами длинную обтрепанную юбку.
– Мам, да мы… – пробормотала Комарова, пятясь к двери. Ленка вдруг выпрямилась и сжала ее запястье якобы сломанной рукой.
– Мам, мы не виноваты, мы время не заметили…
– Так. – повторила мать тише, но голос ее дрожал от сдерживаемой злости. – Где шлялись?
– Мам, да мы не шлялись, мы к отцу Сергию ходили, ему помочь надо было. – пролепетала Ленка. – Он нам гостинцы за это дал.
Комарова про себя удивилась, как это Ленке всегда удается так сходу врать. Сколько она помнила, младшая сестра, набедокурив, всегда вывертывалась до последнего, как рыба, которую пытаешься поймать голыми руками на мелководье.
– А мне, значит, помогать не нужно! Не нужно, по-твоему?!
Комарова сжалась: теперь мать их точно изобьет.
– Мне помогать не нужно, это всему поселку нужно помогать, а мне вот – не нужно! Вы идите, еще кому-нибудь помогите, до родной матери вам дела нет, шляются до ночи! Стирай, убирай для них! Корми их! Сволочи!
Не удалось, значит, Ленке с ее враньем вывернуться… хотя по большей части никогда не получалось, но Ленка все равно врала: на авось, оглашенно, только бы не получить лишний раз по жопе, но иногда, пойманная на своем вранье, получала и лишний раз, и еще сверх того.
Лицо Натальи покривилось, из глаз брызнули слезы. Зачем, зачем только она их столько нарожала, зачем когда-то связалась с пропойцей Мишкой, который был много лет назад первым парнем на деревне, таким высоким, красивым, всегда с улыбкой на лице: Ленка, когда улыбалась, была на него очень похожа, и каждый раз Наталье вспоминалось, как Мишка стоял на бетонной платформе, дожидаясь ее электрички, а, увидев ее в мутном окошке, махал рукой и вот точно так же улыбался. И она ради этой его улыбки бросила все: и дом, и третий курс института, и уехала жить в Поселок, чтобы устроиться тут швеей третьего разряда и изо дня в день прострачивать наволочки, пододеяльники и простыни на швейной машинке фирмы «Зульцер». Километры ткани, проходившие через ее руки, были расписаны затейливыми разноцветными узорами, вроде тех, которые на досуге местный священник малевал на наличниках дверей и окон в своем доме, и Наталья, делая очередную ровную строчку, тоскливо думала, что могла бы в городе покупать эти наволочки, пододеяльники и простыни и застилать ими собственную чистенькую постель в светлой и просторной городской квартире. Еще она думала о том, что все эти листики и завитушки, отпечатанные на большом заводском шаблоне, не идут ни в какое сравнение с вышивками, которые делает попадья Татьяна, и что ее, Натальина, жизнь безнадежно испорчена, как кусок ткани, попавший под сломанную швейную иглу.
– Так где шлялись до темени, я вас спрашиваю? – повторила Наталья.
Комарова подумала, что, если быстро побежать к двери и выскочить во двор, мать, может быть, их и правда не поймает, но убежать казалось почему-то страшнее, чем остаться. Олеся Иванна как-то попеняла Наталье на то, что та лупит почем зря своих детей, а когда Наталья огрызнулась, обозвав Олесю раскрашенной бэ, к которой таскаются все мужики в Поселке, и ее Мишка бы таскался, если бы все на свете не пропил, Олеся бросила ей в лицо «ведьму», и они чуть не подрались, но люди их разняли и увели плачущую Наталью на улицу. Сейчас мать и правда была похожа на ведьму: худющая, растрепанная, в старом замызганном сарафане, стоящая, растопырив руки и сотрясаясь в рыданиях, посреди захламленного коридора.
– Сволочи! Им на родную мать плевать, им чужие люди дороже родной матери! Ну, что вы молчите обе?!
– Мам, только не бей… – шепотом сказала Комарова. – Не бей, пожалуйста…
Наталья подскочила к ней и с размаху больно хлестнула по лицу ладонью. Ленка отпрянула в сторону, прижалась к стене и попыталась закрыться руками, но мать вцепилась ей и Комаровой в волосы и принялась таскать их по всей прихожей, ругая сволочами и проститутками.
– Мама, не бей! – Ленка пыталась вырваться и забиться в угол, в котором кучей была свалена старая обувь и газеты. – Мама, больно!
Была бы жива бабка, она бы их защитила: она всегда их защищала, а потом еще утешала мать, которая всегда после этого бежала на кухню, садилась за стол, подперев лоб ладонями, так что видны были только спутанные светлые волосы, из-под которых раздавались прерывистые глухие всхлипы. Бабка пододвигала стул, подсаживалась рядом, гладила мать по вздрагивавшей от рыданий худой спине и монотонно повторяла: «Ничего, доча, все пройдет, ты поплачь-поплачь, все, доча, проходит, это ничего, ты терпи, ты плачь, слезы лечат, все проходит, и это пройдет». Устав, Наталья наконец отпустила их, отвернулась и пошла, сгорбившись и чуть пошатываясь, в дом. Комарова сидела на полу, глядя ей вслед; потом, когда Наталья скрылась в комнате и щелкнула дверной защелкой, провела рукой по голове, и в руке остался большой клок вымазанных в крови волос. Она бросила его на пол, поплевала в ладонь и потерла.
– Ка-ать… – позвала из своего угла Ленка. – Сильно больно?..
– Да так… – Комарова еще раз осторожно потрогала голову. – К доске какой-то приложилась.
Ленка выбралась из угла и подошла к сестре.
– Кать, ты прости меня, а…
– Да ладно, чего теперь. – Комарова пожала плечами. – Помнишь, бабка говорила: «чему быть – того не миновать».
– Ага. – Ленка присела рядом на корточки. – Это она про своего первого мужа так говорила.
Бабкин первый муж после войны работал на станции грузчиком, был, как рассказывала бабка, хороший и красивый мужик (в ее понимании это значило «высокий»), но много пил, так что люди не раз говорили ему, что рано или поздно он заснет на путях и попадет под поезд, на что он только смеялся и отмахивался. Под поезд он действительно не попал, только поехал однажды по какому-то делу в город и там его задавило трамваем, и бабка часто повторяла, что под трамвай он попал трезвый, потому что в поездках как раз никогда не пил. Второй бабкин муж, от которого у нее родился комаровский отец и которого Комаровы тоже не знали, с войны возвратился без правой руки, но и одной левой ему хватало, чтобы таскать жену за волосы по всему двору и бить о стену дома: бабка как-то показала Комаровой темное пятно на одном из бревен и сказала, что это след от ее разбитой головы. Комарова ответила, что лучше бы это его задавило в городе трамваем, и бабка заплакала.
– Слушай, Кать… Хорошо было бы, если бы бабка жива была, да?
– Чего ты мелешь? Хорошо бы, не хорошо бы! Бы да кабы, да во рту росли б грибы… Померла бабка… и спать пора, завтра с утра полоскать пойдем на речку.
– Да знаю я, но все-таки… хорошо бы, если бы жива была. – сказала Ленка и замолчала.
На улице начинал накрапывать дождь: по крыше застучало, и Комарова тоскливо подумала, что если будет ливень, то придется лезть на чердак, расставлять там миски и ведра, а потом несколько раз за ночь проверять, не переполнились ли. Батя давно грозился починить крышу, но все так и не чинил, а когда мать ему напомнила, махнул рукой и сказал, что там уже так все прогнило и провалилось, что проще заменить все разом, а не ставить ла́тки, от которых никакого толка. И теперь, когда начинался дождь, капли глухо падали в сосновые опилки, которыми было посыпано на чердаке – бабка почему-то считала, что мыши не любят сосновых опилок и не станут жить там, где ими посыпано – а в сильный ливень вода просачивалась в комнаты, и на стенах образовывались длинные рыжие потеки и пятна, в которых Комаровы рассматривали по вечерам всяких чудны́х животных.
Комарова сбросила одеяло – в комнате было еще жарче, чем на улице, – и отвернулась лицом к стене. Было тихо, только в доме все время поскрипывало и потрескивало, и один раз что-то едва слышно прошуршало по коридору: это кошка Дина вернулась с вечерней охоты и потащила к родительской комнате задушенную мышь, чтобы похвастаться перед матерью.
– Кать, ты спишь? – шепотом спросила Ленка.
– Сплю.
– Ну неправда, не спишь же!
Комарова вздохнула и села на кровати, вглядываясь в темноту. Ленкина кровать стояла у противоположной стены и не была видна, но Комарова и так знала, что Ленка тоже сидит, поджав под себя ноги, и пытается разглядеть в темноте сестру.
– Чего тебе?
– Да ничё, я так…
Комарова помолчала.
– Если ничё, то спи уже. Завтра с утра на речку пойдём.
Она снова легла и закрыла глаза, но минут через пять Ленка снова ее окликнула.
– Ка-ать…
– Ну?
– Пойдем лучше завтра на плотину со всеми, а?
– Чего там делать? Ты что, плотины этой никогда не видела?
Ленка помялась немного, потом всё-таки сказала:
– Там Костик будет…
– Этот, что ли, твой миллионер?
– Ну чё ты, Кать… он просто жувачки нам взял, чё ты сразу…
– Ничё. Спи давай.
Ленка обиженно шмыгнула носом.
– И никакой он не миллионер. Он из города только вчера приехал. Они дачу снимают за магазином.
– Это у Березиных, что ли?
– Ну да, у Березиных. Он там с бабушкой живет, а в Поселке еще никого не знает.
– Ничего, скоро узнает, – Комарова перевернулась на другой бок, устраиваясь поудобнее. – Мало не покажется.
– Злая ты, Катька.
– Чего это я злая? Что жердь твою белобрысую обидела?
– Никакая он не жердь не белобрысая! – Ленкин голос задрожал – то ли от злости, то ли от обиды. – И никакая не моя!
Комарова уткнулась лицом в подушку. От подушки шел кисловатый запах давно не стиранной прелой ткани. Вспомнилось, как матушка Татьяна, жена отца Сергия, угощала ее на чистенькой кухне чаем с творожными булочками и вареньем. Разговаривая, Татьяна между делом зашивала прореху на белоснежной наволочке. Комарова вздохнула и поелозила головой о подушку, но Татьяна не исчезала: ее длинные пальцы ловко клали стежок за стежком и затягивали узелки, и Комаровой вспомнилось, что покойная бабка Марья говорила, будто бы все ведьмы умеют шить, и если баба хорошо шьет, держись от нее подальше, потому что такая и память может зашить, и счастье, и что если видишь, как ведьма шьет, то нужно крепко закусить язык, и тогда она ничего тебе не сделает. Сама бабка шить не умела, и мать смеялась над ней, говоря, что, когда бабка пришивает к халату пуговицу, она весь халат вокруг этой пуговицы собирает в сборку, а если дать ей пришивать пуговицу к пальто – она и пальто все к одной пуговице стянет. А бабка отвечала на это, что Комаровская мать шить хоть и умеет, но плохо, так что она ни то, ни се, и потому, наверное, ей достался в мужья Мишка.
– Я в восемнадцать замуж вышла, – тихо говорила Татьяна. – Рано, наверное, как наши говорят, не нагулялась еще.
– Это с парнями не нагулялись, что ли? – промямлила Комарова с набитым ртом.
Татьяна, перестав шить, уставилась на нее растерянным взглядом, потом положила иголку на край стола и медленно перекрестилась.
– Вот ведь грех! – она смущенно улыбнулась. – Вот, Катя, грех! Сдуру такое при ребенке ляпнула!
– Какой еще грех, тетя Таня? Все же гуляют, а потом женятся, когда нагуляются. И говорят все – чего в этом такого?
– Не говори, Катя! – Татьяна бросила наволочку и всплеснула руками. – Еще какой грех! Муж и жена друг другу Богом даются!
Комарова перестала смеяться, пожала плечами и угрюмо уставилась в свою чашку. Творожная булочка вдруг показалась ей невкусной.
– Сергий тогда диаконом служил, его к нам в Заполье позвали ребеночка крестить. Отец Александр тогда как раз помер. – Татьяна снова принялась шить. – Вот Сергия и позвали, а он никогда в нашем Заполье не бывал: у нас деревня маленькая, вся вдоль одной дороги, а между домами такие закоулки – легко заблудиться. Он у меня дорогу тогда спросил.
– И вы его так сразу и полюбили? – спросила Комарова.
Татьяна вздохнула, нахмурилась, как будто пытаясь припомнить, потом улыбнулась.
– Наверное, так сразу и полюбила.
Татьяна была очень красивая: высокая, круглолицая, с пышной копной огненно-рыжих волос. В Поселке болтали, что по ночам к ней как будто таскается черт, и поэтому у них с Сергием нет детей, хотя живут они вместе уже больше десяти лет. Про черта, наверное, тоже придумали потому, что Татьяна хорошо шила, и многие приносили ей на починку одежду, а она чинила и ничего с них за это не брала. Или все оттого, что Татьяна была рыжая, а к рыжим ведь правда пристает нечистая сила. Хорошо, что Комаровы все белобрысые, а были бы рыжими – Антошка Босой с его компанией им бы проходу не дали. Комарова перевернулась на спину, чтобы не чувствовать прелого запаха, шедшего от подушки. Ленка тихо посапывала в своей постели. В дверь поскреблась Дина: видя, что ей не открывают, тоскливо мяукнула. В мае она принесла четырех котят, которых мать утопила в ведре и выплеснула за огородом.
– Динка, уходи… – шепнула Комарова. – Иди в подвал мышей ловить.
Дина ненадолго затихла, потом поскреблась еще, наконец дверь скрипнула и приоткрылась. Кошка бесшумно проскользнула в комнату, вспрыгнула на кровать и ткнулась влажным носом в лицо Комаровой.
– Ну, чего ты? Чего приперлась? – Комарова осторожно почесала ее за ухом. – Ты ноги вытирала?
Дина замурчала и улеглась рядом. Комарова осторожно провела несколько раз ладонью по ее влажной шерсти, пахшей землей и хвоей, закрыла глаза и вскоре уснула. Во сне она вместе с Ленкой пробиралась куда-то через лес: еловые ветки хлестали их по лицам, а ноги вязли в хлюпкой болотистой почве, и Комаровой все время хотелось заплакать, но слезы никак не могли вылиться из глаз и скапливались в горле противным липкими комом.
2
Ленка перегнулась через низкую, облупившуюся от времени ограду, и Комарова, испуганно подавшись вперед, поймала ее за рукав.
– Кувырнуться захотела?
– Да я ничего, Кать… Я же осторожно!
– Знаю я твое «осторожно»! Лучше стой спокойно!
– Ну, Ка-ать… – завела было Ленка, но вдруг послушно примолкла и искоса глянула на стоявшего рядом долговязого Костика. Костик как приклеенный смотрел вниз; на нем были вчерашние джинсы и рубашка с длинными рукавами, его белобрысые волосы намокли от пота, и подмышками были темные пятна. Дурак городской. Комарова потерла грязным пальцем свежую царапку на щеке и обернулась на остальных: Светка с Павликом с утра купили одну на двоих бутылку девятки, стояли в обнимочку и пили по очереди– смотреть противно. Наташка крутилась рядом с ними, как дура, – думала, наверное, что они ее угостят, или просто не знала, куда себя деть. Комаровой, глядя на Наташку, хотелось сжать ее вздернутый веснушчатый нос костяшками пальцев и сделать «сливу», чтобы еще дня два потом не сходила краснота.
– Ну, дай глотнуть-то… – наконец не выдержала Наташка и потянулась к Светкиной бутылке. Светка отвела руку в сторону.
– Пусть тебе твой покупает.
Наташка обиженно оттопырила губу и притихла. Своего у нее не было: как-то раз Комарова видела, как вечером Наташка на своем крыльце обжималась с каким-то парнем, лица которого было не разглядеть в сумерках, но этим, похоже, все и кончилось, и она только и была занята тем, что таскалась за Светкой и Павликом.
– Да ладно тебе, Наташка… дрянь эта девятка, даже мой батя ее не берет.
– Конечно, твой батя водку пьет. – Светка хихикнула и покачала в воздухе полупустой бутылкой. – Вы с мелкой тоже водку пьете?
Раньше на плотине много купались, но кто-то из дачников додумался на спор прыгнуть с моста с той стороны, где водопад густо-ржавого цвета, зажатый между двумя бетонными блоками, с грохотом обрушивался вниз, на поросшие склизкими водорослями камни. Горе-спорщик покалечился, и с тех пор плотина считалась у местных нехорошим местом, и пришла в запустение: старые кирпичные опоры моста частично раскрошились, из трещин торчали пучки осоки и несколько кустиков рябины и безвкусной дикой смородины с прозрачными розоватыми ягодами, которую все почему-то называли «альпийской». Сам мост тоже по большей части сгнил; некоторые доски провалились, и видны были ржавые металлические конструкции и под ними – набирающий силу поток, как будто Оредеж злилась, что кто-то решил задержать ее течение и превратил часть русла в полузаболоченный пруд, на поверхности которого мягко покачивались равнодушные кувшинки.
– У! Как ревет! – Ленка плюнула вниз и присвистнула. – Высоко тут!
– Метра два, не больше, – пожал плечами Костик.
– Ты чё, какие два?
– Ну, может быть, два с половиной…
– Да какие два с половиной! Тут несколько лет назад один дачник насмерть расшибся!
– И с двух метров можно насмерть расшибиться. – резонно возразил Костик и вдруг ухватил Ленку за подмышки своими костлявыми руками – Комарова заметила, что тыльные стороны ладоней у него красные и как будто ободранные – и поднял вверх, так что она коснулась коленями края ограды. Ленка восторженно взвизгнула, но глаза у нее стали круглые и удивленные, как у кошки Дины, когда мать швыряла в нее газетой. Светка с Павликом глупо захихикали.
– Эй! Ты чё творишь?! – Комарова сжала кулаки. – А ну, пусти ее!
– Да ладно, что тут такого-то? – Костик улыбался: зубы у него были неровные и все в щербинах, как будто он только и делал, что грыз семечки.
– Ты чё, глухой, что ли? Я тебе сказала, пусти ее, а то получишь, понял?!
Он перестал улыбаться и медленно опустил раскрасневшуюся Ленку.
– Да я же в шутку…
Комарова смотрела на Костика исподлобья.
– За такие шутки в зубах бывают промежутки, понял?
– Да что такого-то?
– Ты понял, не?
– Да понял я, понял… сдаюсь. – он шутливо поднял руки вверх. – Мир?
– Мы с тобой и не ссорились.
– Ну, Кать… – Ленка потянула старшую за рукав. – Ну, чего ты?
– Комарица у нас такая, – Светка залпом допила свое пиво и выбросила пустую бутылку в шумевший под плотиной водопад. – Ты ее лучше не зли – укусит, будешь потом уколы делать от бешенства. Сорок уколов в живот, слышал? Моей матери делали, когда ее бесхозная собака укусила.
Комарова хмуро поглядела на Светку, но отвечать не стала: со Светкой спорить было бесполезно, ты ей одно слово – она тебе в ответ десять, да таких, что еще неделю будешь вспоминать. Бабка про нее бы сказала: язык – как помело.
– Ладно, нам идти пора. У нас дел полно по хозяйству, в отличие от некоторых...
– Да побыли бы еще… что, не подождут ваши дела?
Костик смотрел примирительно и даже как будто заискивающе, и Комарова, смутившись, повертела головой и наконец сделала вид, что рассматривает что-то в прибрежных зарослях. Погода была тихая, и ветер едва шевелил листья кустов и приглаживал траву, как человек приглаживает ладонью волосы. Утром мать сама пошла полоскать на речку и отпустила их с Ленкой на плотину, да еще дала Комаровой двадцать рублей на мороженое – чтобы перед чужими людьми стыдно не было. Комарова машинально сунула руку в карман и дотронулась до двух бумажек с профилем Ленина, таких истертых, что на ощупь они были больше похожи на тряпочки. На них можно было взять вафельных стаканчиков на всю компанию, и Комаровой подумалось, что мать, наверное, копила эти деньги и прятала их от бати, перекладывая из одного места в другое, оттого они так замусолились. Надо отдать их ей.
– Не подождут нас дела. Давайте, что ли… – Комарова помялась немного. – Спасибо за компанию.
– Ну, давайте тогда. – Костик с улыбкой протянул ей руку и пожал, как парню. Ладонь у него была сухая и горячая, и Комарова подумала, что красные пятна на ней, – это, наверное, ожоги. Она сама как-то так обожгла руку, когда они с Ленкой и мелкими пекли картошку, и она подумала, что большая гладкая картофелина, утащенная с бабкиженького огорода, уже достаточно остыла, и схватила ее всей ладонью. Рука потом долго саднила, и ручку ведра, которым носили воду от колодца, приходилось обматывать тряпочкой.
– Дорогу-то обратно найдете? – спросил Костик.
Светка снова хихикнула, но Комарова вместо того, чтобы огрызнуться, ответила просто: «Не боись, не заблудимся». Костик улыбнулся – как ей показалось, снова заискивающе, будто ему хотелось с ней подружиться.
– Ну, ладно, в общем… – опустив глаза, буркнула Комарова. – Увидимся еще, будь здоров…
– И тебе не болеть.
«Тьфу ты, вот же дурак какой. Дурак и есть. Жердь белобрысая».
Ленка шла насупившись и пинала попадавшиеся под ноги камешки.
– И ничего он такого не сделал… чё ты вот сразу?
– Ну, извини, что твою жердь обидела.
Ленка хотела что-то ответить, но передумала и промолчала. От станции к плотине вели две дороги: одна шла через поселок и была когда-то заасфальтирована, а теперь мелкие прыгали с одного островка асфальта на другой, представляя, что между островками не песок, а огонь; вторая, по которой Комаровы решили вернуться, петляла через лес и была почти заброшена. Лес здесь был темный и влажный, и в него не ходили: грибов и ягод в нем было немного, зато было полно бурелома и глубоких ям, в дождливое время заполненных водой: бабка говорила, что эти ямы – воронки от упавших во время войны бомб, и что некоторые бомбы не разорвались и так и лежат в земле под мхом и пушицей, ждут своего часа.
– Ка-ать…
– Чего тебе?
Ленка остановилась, обхватила себя руками за плечи и поежилась, хотя было почти так же жарко, как вчера.
– Ты чего на Костика так злишься? Он же не сделал ничего.
– Да ничего я не злюсь… – Комарова подумала немного и решила сказать прямо. – Он что, так тебе нравится?
– Да ничё он мне не нравится. – Ленка покраснела. – Ты чё такое выдумала?
– Нравится. Я же вижу, что нравится.
– Ничё он мне не нравится! – Ленка дернула сестру за рукав, а потом сильно ударила кулаком в плечо. Вскрикнув от неожиданной боли, Комарова развернулась и обеими руками толкнула Ленку в грудь: та не удержалась на ногах и, покачнувшись, плашмя упала в пыль: было ясно, что она не ушиблась, но в глазах у нее стояли злые слезы, которые через мгновение потекли по щекам.
– Ничё он мне не нравится! – заорала Ленка, сидя в пыли. – Дура ты! Дура!
– Сама дура! – огрызнулась Комарова и наклонилась, чтобы помочь Ленке подняться, но та оттолкнула ее руки.
– Дура! Собака паршивая!
– Ну и сиди тут! Пусть тебя твой Костик поднимает!
Комарова развернулась и быстро зашагала по дороге. Через некоторое время Ленка ее догнала: она уже не ревела, только громко шмыгала носом и утиралась кулаком.
– Ну чё ты сразу, Кать? А? Чё вот ты сразу?
Комарова уставилась себе под ноги и не стала отвечать. Девять месяцев в году Поселок был точно вымерший, но летом приезжало много дачников: большей частью уже знакомых, хотя случались и новые, как вот этот долговязый Костик, которому лет пятнадцать, если не больше, и не понятно, зачем он водится со всякой мелюзгой. Ленке недавно исполнилось одиннадцать, но вертлявости ей, правда, хватит на все четырнадцать. Бабка Женька говорила про нее: «Молодая, да ранняя». Комарова плюнула под ноги. Хотелось курить, но самокрутки все закончились, а сделать новые она с утра поленилась. В поселке болтали, что сестры Каринка и Дашка, жившие на той стороне Оредежи, путались со своими дачниками, и что Каринка даже была однажды беременна и ездила в город делать аборт. Сестер за это называли бесстыжими, но, скорее всего, ничего такого не было, а было то, что Каринка с Дашкой носили чулки, которые каким-то хитрым образом подвязывали к трусам, чтобы не сползали, и красились дешевой вонючей помадой, которая продавалась в ларьке возле станции, и от которой у Комаровой, когда она попробовала накрасить ею губы, пошла сыпь по всему лицу. И еще однажды они оторвали от выходных туфель своей матери два кожаных цветочка с голубыми бусинами в центре – по цветочку с каждой туфли, прицепили эти цветочки к своим волосам и прогуливались целый день по Поселку, а вечером мать их поймала и отлупила так, что по обе стороны реки было слышно.
– Говорят, прошлой осенью в этом лесу мужик на мине подорвался… – начала Ленка. – Хотел подосиновик сорвать и на мине подорвался, потом его руки нашли на одной сосне, а голову – на другой, а все остальное вообще не нашли.
– Нет в этом лесу подосиновиков. Опенок можно найти или оленьи рожки.
– Да есть же, я сама видела…
– Чего ты видела, подосиновики?
– И белые видела.
– Все ты врешь.
– И ничего я не вру.
– Он пьяный был.
– Трезвый он был! – разобиделась Ленка. – Чё сразу пьяный? Чё уже, только пьяный может в лес за грибами пойти?
Комарова пожала плечами. Поселковые мужики действительно ходили в лес в основном пьяные и возвращались обычно без грибов, но с битыми мордами. Отца Сергия, который настаивал на том, что пьянство – такой же грех, как курение, даже хуже, никто не слушал, а некоторые возражали, что его предшественник, отец Александр, сам был не дурак выпить – правда, Александр и умер от пьянства, полезши после двух стаканов водки чинить что-то на крыше, упав и сломав себе позвоночник. После этого он еще много дней лежал и мучился, а когда помер и его хоронили, Сергий не сумел прочитать ни «Последование по исходе души», ни «Трисвятое», только стоял, закрыв лицо руками, и плакал, пока Татьяна не увела его домой.
– А даже если и нравится мне Костик, чё с того? Тебе жалко, что ли? – завела вдруг Ленка.
– Там, в лесу, – Комарова махнула рукой в сторону обочины, – в земле полно бомб лежит. Может, тот мужик на одной из них подорвался. Бабка говорила, тут тяжелые бои в войну шли.
Ленка недоверчиво фыркнула.
– Немцы, когда отступали, все за собой жгли, – продолжала Комарова. – Они и церковь хотели взорвать, потому что там у наших был склад боеприпасов.
– А священник тогда где был?
Комарова промолчала: ей не хотелось рассказывать, что священника, отца Алексия, большевики сами же и расстреляли вместе с его семьей в тридцать седьмом году. Попадья, которую тоже звали Татьяной, как жену отца Сергия, когда пришли ранним утром и вывели на улицу одиннадцать ее детей, выскочила из дома в одном исподнем и, крича, бросалась от одного своего ребенка к другому, пытаясь закрыть их своим широким телом. Потом их всех вместе свалили в большую яму и кое-как засыпали землей. Бабка, когда ей про это рассказывала, сама чуть не плакала, но крепилась, поджимала губы и говорила, чтобы Комарова ни в коем случае не передавала младшим.
– Если бы их тут не остановили, никакого города твоего, может, сейчас бы вообще не было.
Лес закончился, и они вышли к новой части Поселка: маленькие разноцветные домики, похожие на кукольные, окруженные каждый шестью сотками земли, лепились друг к другу, разделенные узкими тропинками. Местные здесь вообще не жили, только городские: только им, по мнению Комаровой, могло прийти в голову понастроить разноцветных курятников и называть их домами. Она раздраженно передернула плечами. На дорогу из какой-то калитки выкатилась белая растрепанная собачонка величиной с кошку и, увидев Комаровых, захлебнулась визгливым лаем. Ленка встрепенулась, подскочила к собачонке и дала ей пинка. Собачонка от удивления замолчала.
– Люся, домой! – позвал из-за забора женский голос. – Домой, Люся!
Собачонка отряхнулась и потрусила обратно за калитку. Пока они шли, навстречу им несколько раз попадались дети из городских, иногда сами по себе, иногда со взрослыми. Дети бросали на Комаровых любопытные взгляды, а взрослые их совсем не замечали, как если бы Комаровы были правда чем-то вроде комаров – хотя настоящих комаров люди все-таки замечают хотя бы потому, что надо от них отмахнуться. Старшей Комаровой вдруг сделалось невыносимо тошно от того, что кто-то может вот так приезжать в Поселок только на лето и держать маленьких собачонок для развлечения, а не для охраны. Их Лорд был большой, черный, лохматый, с изорванными в драках с другими псами ушами, и никому бы не пришло в голову взять его на руки или хотя бы даже пустить в дом. Летом и зимой он сидел в своей конуре на цепи и лаял низким грубым голосом, когда кто-нибудь проходил мимо их дома. Комарова вытянула перед собой руки с растопыренными пальцами и внимательно на них посмотрела. Руки были такие грязные, что, казалось, грязь намертво въелась в каждую пору и каждую трещинку на коже, так что теперь для того, чтобы их отмыть, пришлось бы битый час тереть их куском хозяйственного мыла. Ногти были обгрызены, как говорила бабка, «до самого мяса»: она их с Ленкой за грызение ногтей ругала и даже мазала им пальцы горчицей, но Комаровы грызли и с горчицей. Мать как-то сказала им, что кусочки ногтей, попав в желудок, могут там укорениться, как рассада, и прорасти все тело насквозь, но и это не помогло, только по вечерам они с Ленкой иногда лежали вместе на кровати, прислушиваясь к собственным ощущениям, и каждый слабый спазм, вызванный голодом, или притупленная боль, ни с того ни с сего вдруг возникавшая где-то внутри, казались им признаками того, что ногти прорастают в желудке и скоро прорастут их насквозь.
– Ты чё задумалась, Кать?
– Да так, ничего.
– Злишься, что ли?
– Чего это злюсь?
– Ну, ладно тогда…
Ленка примолкла. Дорога под ногами пылила, и белая глиняная пудра покрывала их ноги выше колен. Из-за жары и быстрой ходьбы по их спинам лился пот, и Комарова с сожалением подумала, что опять придется вечером мыться: она как старшая мылась последней, когда вода в тазу становилась уже чуть теплой и мутной от грязи, – к тому же, Олька и Светка, мывшиеся перед Ленкой, расплескивали половину таза, и пол вокруг него становился мокрым и скользким. Комарова снова почувствовала в горле липкий ком, который появился еще ночью и, казалось, весь день никуда не исчезал, просто спустился куда-то вниз, чтобы теперь снова подняться и застрять под подбородком. Она с силой сжала зубы, так, что они тихо скрипнули друг об друга.
– Слушай, Ленка…
– Ась?
– Надо бы к отцу Сергию зайти.
– А чё?
– Ну, спасибо сказать за гостинцы. Наши, наверное, все подъели уже.
– А чё, надо! – обрадовалась Ленка, которой было все равно куда идти, лишь бы попозже вернуться домой и попробовать на этот раз проскочить мимо матери.
По пути они завернули в магазин и попросили у Олеси Иванны в долг полкило самого вкусного печенья – курабье, похожего на цветки ромашки с красной желейной серединкой.
– В долг, как же! – Олеся Иванна наклонилась над прилавком, глядя на сестер Комаровых большими, густо подведенными зеленоватыми глазами. На ее ресницах, и без того длинных, виднелись комочки туши, так что казалось, что ресницы у нее были присыпаны сажей. – Мишка у меня еще на прошлой неделе бутылку водки взял в долг и пачку беломора – и где теперь?..
– Так то – батя… – возразила Комарова.
– Ну, Олеся Иванна… – жалостно протянула Ленка. – Ну, пожалуйста… мы ж печенье только…
Комарова легонько ткнула Ленку в бок и шикнула. Олеся Иванна усмехнулась ярко накрашенными губами. Из-за того, что она стояла внаклонку, ее грудь едва не касалась усыпанного крошками прилавка, и видна была тонкая серебряная цепочка, терявшаяся в ложбинке выреза.
– Козел ваш батя. Как только Наталья до сих пор от него не сбежала. – Олеся Иванна снова усмехнулась. – Правильно говорят: охота пуще неволи.
– Олеська! Ну ты идешь или нет?! – позвал мужской голос из-за двери, зажатой между полками с хлебом, крупами и консервами. Там находилась небольшая комната, которую Олеся Иванна называла «складом», и где в основном хранилось спиртное и непортящиеся продукты, а еще стояли небольшой стол, пара стульев и старый диван в истрепанной зеленой обивке. – Олеська, долго тебя ждать еще?! Что ты там возишься?!
– Да иду я, Петя, иду уже! – Олеся Иванна раздраженно отбросила упавший на лоб завитой темный локон. – Покупатели у меня!
– Какие там у тебя покупатели в два часа дня?!
На этот раз Олеся Иванна не стала даже отвечать, только покачала головой.
– Вот ведь тоска… уехать бы вам отсюда, девочки.
– Зачем уезжать? – поспешно спросила Комарова, испугавшись, что Ленка ответит первой и скажет какую-нибудь глупость. – Тут речка…
– Речек на свете много есть, – вздохнула Олеся Иванна, потом почти не глядя насыпала в небольшой полиэтиленовый мешок курабье и поставила на весы. Красная стрелка покачалась немного и показала восемьсот пятьдесят граммов. Олеся Иванна протянула пакет Комаровой.
– Мы через неделю отдадим, Олесь-Иванна! – Комарова прижала пакет к груди. – Ну в крайнем случае, через две.
– Да берите так, ладно уж. – Олеся Иванна пожала полными плечами и посмотрела куда-то вбок, где ничего не было, только маленькая полосатая кошка со странным именем Алёшка, которую продавщица держала от мышей, вылизывала давно уже пустой стаканчик из-под сметаны и тихо постукивала им по полу. Комарова, вдруг вспомнив про материны десятки, сунула руку в карман и дотронулась до них. Отдать Олесе за печенье, что ли? Глупо выйдет, и она станет спрашивать, откуда у них деньги, а так – забудет, как всегда забывала. И матери лучше их вернуть – она, может, себе что-нибудь купит или мелким.
– Ты что задумалась, Катя? Влюбилась в кого, что ли?
– Да я так, ничего! – встрепенулась Комарова. – Спасибо вам большое, Олеся Ивановна!
– Было бы за что, – усмехнулась Олеся Иванна.
– Олеся, ну идешь ты там уже?! – повторил из-за двери мужской голос.
– Да иду я, иду… вот дурак какой нетерпеливый.
Выйдя из магазина, Комаровы не удержались, и тут же достали и сгрызли по печенью: печенье оказалось свежим, и желейная серединка его была мягкой и тянучей, как слегка подсохшее варенье.
– Бабка Женя говорит, Олеся Иванна – ведьма. – Ленка потянулась за вторым печеньем, но, подумав, отряхнула руку и сунула ее в карман. – У тети Тани лучше, с чаем.
– Бабка Женя на всех так говорит. И на тетю Таню тоже.
– Это ты знаешь, что за Петя? – продолжала Ленка. – Это который продукты в магазин возит, тети Оксаны муж.
– Вот кто ведьма. – буркнула Комарова.
Ленка в ответ только хмыкнула, соглашаясь. Позапрошлым летом Комаровы вместе с шестилетним Ваней залезли к тете Оксане на огород и утащили несколько свекл – свеклы были мелкие, кривенькие и поеденные земляным жучком, но тетя Оксана, обнаружив пропажу, сразу подумала на Комаровых и пришла жаловаться. Мать, не разбираясь, исколотила всех, а тетя Оксана поймала пытавшуюся прошмыгнуть мимо нее Ленку. Когда Ленка заорала, что это была не свекла, а самая настоящая дрянь, тетя Оксана совершенно озверела и, наверное, прибила бы ее, если бы мать вдруг не подскочила к ней, не вырвала Ленку у нее из рук и не сказала ей выметаться из дома и подавиться своей поганой свеклой и всем, что там еще растет на ее поганом огороде.
– Так ей и надо. – Ленка шмыгнула носом, видимо, вспомнив красную физиономию тети Оксаны, когда та драла ее за волосы, приговаривая: «Будешь знать, как брать чужое!» – Вот пусть от нее теперь дядя Петя к Олесе Иванне уйдет. Сама будет знать.
– Не уйдет он.
– Это чё это не уйдет?
– К ней так только ходят. – Комарова взяла из пакета печенье и, откусив большой кусок, стала тщательно его пережевывать. Ленка шла рядом, высоко задирая ноги, время от времени подпрыгивая и поднимая с дороги белые облачка пыли. Комаровой хотелось сказать ей, чтобы шла спокойно и не пылила, но вместо этого она отвернулась и стала рассматривать попадавшихся навстречу людей, машинально срывая круглые бомбошки репейника, росшего вдоль дороги: несмотря на то, что каждое лето его выкашивали, он упорно лез снова, и как будто в насмешку над всеми усилиями листья его год от года становились только гуще и крупнее. Дачников в этой части поселка было немного, все в основном из тех, которые приезжали на лето к родственникам. Комарова, собрав большой ком репьев, помяла его немного в ладонях и, не целясь, швырнула в проходившую мимо незнакомую девчонку. Девчонка запищала и завертелась на месте, пытаясь вытащить репьи из своих волос, перехваченных большим синим бантом, но волосы только еще сильнее запутывались, и голова ее быстро стала похожа на птичье гнездо. Какая-то женщина – видимо, ее мать, шедшая в отдалении, с криком бросилась к Комаровым. Комаровы, не дожидаясь, пока она подбежит ближе, перепрыгнули через канаву, тянувшуюся вдоль обочины, и помчались что было сил по тропинке.
– Где вы живете?! Подождите, я узнаю! Я узнаю! – кричала им вдогонку незнакомая женщина. – Да замолчи ты! Что ты орешь?!
Судя по тому, что девчонка коротко взвизгнула, мать ей хорошенько поддала. Ленка фыркнула, давясь смехом, и чуть не споткнулась.
– Не навернись! – на бегу крикнула Комарова. – Нос расшибешь!
Ей тоже было весело и хотелось смеяться, и она с трудом удержалась от того, чтобы не остановиться и не посмотреть, как тетка-дачница будет пытаться вытащить из волос девчонки репьи. Они свернули с центральной дороги, добежали до моста через Оредеж и только там остановились, тяжело дыша и вытирая пот, лившийся ручьями по запыленным лицам. Река в этом месте была широкой и текла медленно, лениво перекатываясь через огромные валуны, лежавшие на дне. Когда Комарова спросила у отца Сергия, откуда взялись эти валуны, он сказал, что камни остались еще со времен Всемирного потопа, когда Бог разгневался на людей и обрушил на землю дождь, из-за чего все реки вышли из берегов и превратились в бурные потоки, которые тащили камни и вырванные с корнями деревья. Комарова взялась за прутья перил и посмотрела вниз: из-за долгой жары воды в реке было немного, и валуны, покрытые коркой высохших водорослей, были похожи на небольшие островки. Здесь редко купались, потому что, несмотря на тихое течение, считалось, что где-то в этом месте у реки есть второе дно, хотя про второе дно начинали говорить всякий раз, когда кто-нибудь по пьяни лез в Оредеж купаться, тонул и его потом не находили. Кусты, росшие вдоль пологих берегов, тихонько шелестели, и река казалась безмятежной. Толстая водяная крыса высунулась из зарослей камыша, огляделась, бесшумно скользнула в воду и поплыла к противоположному берегу. Комарова некоторое время смотрела, как зверек борется со сносящим его течением, потом запустила руку в пакет с печеньем и бросила одно вниз. Печенье упало прямо рядом с крысой, и та, испугавшись, нырнула на глубину, но через какое-то мгновение вынырнула, схватила подачку длинными желтыми зубами, подплыла к одному из камней, вылезла на него, отряхнулась и стала есть.
– На бабку старую похожа, – хихикнула Ленка. – У, горбатая!
Шерсть водяной крысы, коричневая и растрепанная, слегка поблескивала на солнце, толстый хвост лежал неподвижно, и кончик его полоскался в воде. Бабка говорила, что такая крыса называлась ондатрой и что после войны их совсем не было – всех перебили. Один раз батя поймал такую, ободрал с нее кожу, и мать приготовила жаркое, но Комарова так и не решилась его попробовать, а Ленка вообще разревелась, и мать заставила ее несколько часов простоять коленями на гречке. Съев печенье, ондатра аккуратно собрала все крошки, потом понюхала еще на всякий случай камень и, усевшись поудобнее, стала передними лапами расчесывать мех.
– Хоть бы спасибо сказала, дура! – крикнула Комарова.
Крыса вздрогнула, глянула на них черными бусинками глаз, неуклюже нырнула и, сколько Комаровы ее ни высматривали, больше не показывалась. Ленка разочарованно сплюнула в воду. На Комарову вдруг ни с того ни с сего накатила такая тоска, что она с силой сжала прутья решетки и тихонько скрипнула зубами, чтобы не завыть. Воздух над крышами домов слегка колыхался, и небо было таким чистым, что казалось, будто кто-то натянул над поселком огромное синее покрывало. Вокруг не было ни души, как будто все попрятались от жары или ушли купаться ниже по реке, где было несколько песчаных пляжей. Когда бабка была жива, она не разрешала Комаровым купаться, почему-то уверенная, что они утонут, и Комаровы, когда ходили полоскать белье, залезали прямо в платьях в воду, а потом врали бабке, что одна, полоща наволочку, упала с мостка, а другая полезла ее вытаскивать. Бабка каждый раз хваталась за сердце, хотя, наверное, понимала, что Комаровы ее дурят, а однажды сама пришла на речку, увидела, как сестры возятся в реке, спустилась к мостку и закричала, чтобы они немедленно вылезали. Перепугавшись, они, как были, в платьях, переплыли на другой берег и убежали, а когда все-таки решили вернуться домой, уже готовые к тому, что их накажут, их никто не наказал, потому что бабке стало плохо с сердцем, и мать сидела у нее в комнате, а в доме стоял запах корвалола, от которого было щекотно в носу.
– Кать… – Ленка осторожно тронула ее за плечо. – Слышь, Кать…
– Чего тебе?
Вместо ответа Ленка протянула сестре немного помятую самокрутку и коробок спичек.
– Я пару дней назад припасла, так и не скурила.
– Угу. – Комарова зажала самокрутку губами и зачиркала спичкой.
– Ты чё, Кать?
– Ничё. Идти надо, а то опять будет, как вчера.
Они постояли на мосту еще немного, пока Комарова докурила и бросила бычок в медленно текущую внизу воду.
Домой Комаровы вернулись все равно только под вечер, потому что Татьяна долго их не отпускала и надавала в дорогу пирожков с капустой, которые они с трудом донесли до дома, где роздали мелким – получилось по два пирожка на нос. Светка с Олькой пытались ухватить по три, почему-то вообразив, что, раз они близнецы, им полагается больше, и когда Ленка ущипнула Светку за щеку, та разревелась, а Олька, в каждой руке державшая по пирожку, попыталась укусить Ленку за плечо. На их возню в коридор высунулась мать, но ругаться не стала, только сказала Комаровой к ней зайти, и что-то в ее голосе было такое, что Комаровой почти захотелось, чтобы лучше мать на нее накричала или ударила.
Два года назад мать зашла рано утром в их с Ленкой комнату, разбудила старшую Комарову и сказала таким же точно голосом: «Катя, одевайтесь с Леной скорее и идите к бабушке». Стояла середина осени, ночи были холодные и дождливые, и Комаровы одевались медленно, потому что у них все никак не получалось проснуться, и сквозь сонную пелену Катя чувствовала впервые в жизни какой-то новый противный страх, совсем не похожий на страх перед материной или батиной руганью или перед злой соседской собакой, – то были все детские, привычные страхи, а этот, новый страх был взрослый, и Комарова, через голову натягивая вязаную бабкой серую с зеленым жилетку, думала, боится ли Ленка так же, и понимала, что Ленка тоже боится. Из коридора до них донесся материн голос:
– Ну что… что, с утра уже пьяный… иди давай за священником.
Батя против обыкновения не возражал, и слышно было, как он что-то роняет с вешалки, одеваясь.
– Давай, давай, Миша… – поторапливала мать раздраженно и одновременно – почти ласково. – Раз в жизни сделай по-человечески! – она, наверное, сейчас наклонялась поднимала с полу упавшие вещи и подавала ему. – Давай, Миша, иди уже…
– Да иду я, иду! – наконец огрызнулся батя. – Уже вышел!
Потом хлопнула входная дверь, и в доме стало тихо-тихо. Комарова взяла Ленку за руку, и они пошли в бабкину комнату. Комарова, прислонившись плечом к дверному косяку, замерла и закрыла глаза от накатившего снова противного взрослого страха двухлетней давности, и вспомнилось, как они с Ленкой сидели, скорчившись, в зазоре между изголовьем бабкиной кровати и стеной, и слушали бабкино хриплое дыхание – иногда это дыхание прерывалось ненадолго, и Ленка сжимала запястье старшей сестры холодными влажными пальцами. Комарова встряхнула головой, открыла глаза, толкнула ладонью дверь и шагнула внутрь.
В материной комнате было прохладнее, чем на улице, но стоял душный кисловатый запах, который бывает в старых и плохо проветриваемых деревянных домах. Теперь, правда, окно комнаты было открыто, но неподвижный уличный воздух как будто даже не проникал внутрь. Мать сидела возле кровати, на которой, укрытый до самого носа одеялом, лежал четырехлетний Саня.
– Ну что, нагулялись? – голос у Натальи, когда она говорила спокойно, все равно был хрипловатый и как будто готовый в любую минуту сорваться на крик. У ее ног терлась, выгибая хвост, Дина: она коротко взглянула на Комарову злыми желтыми глазами, и Комаровой показалось, что ее мать и вправду – на самом деле ведьма, которая их всех украла у настоящих родителей и теперь держит у себя только для того, чтобы мучить и бить, когда они приходят домой под вечер. Вспомнилось, как тетя Оксана, когда Комаровы как-то шли мимо ее дома после того, как потаскали у нее свеклу, приоткрыв калитку и высунувшись на улицу, кричала им, что она видела, как их мать бегала по всему Поселку в ватнике на голое тело. Это и правда было год или полтора назад, когда батя сильно напился, избил мать и содрал с нее ее ношеный-переношенный халат, и Наталья, схватив с вешалки ватник, выскочила в обнимку с этим ватником голая на улицу и побежала, а вернулась только под утро следующего дня, замерзшая чуть не насмерть – на дворе был октябрь-месяц, и деревья стояли желтые и уже наполовину облетели. Ленка тогда наклонилась, сгребла с дороги свежую коровью лепешку, подскочила к тете Оксане и швырнула ей в лицо, но тетя Оксана успела захлопнуть калитку, и лепешка повисла коричневыми комьями на недавно выкрашенных зеленых досках. Комарова осторожно переступила с ноги на ногу.
– Мы к тете Тане ходили, спасибо ей сказать.
– А твой отец с самого утра пьяный валяется. – Наталья хмыкнула и почему-то кивнула на Саню.
– Ага. – только и нашлась, что ответить, Комарова, и в комнате повисло тягостное, как спертый воздух, молчание. Наконец Наталья молча встала.
– С братом посиди. Только и умеете, что шляться по всему Поселку. Не знаешь, которая из вас первой в подоле принесет.
Комарова втянула голову в плечи, когда мать прошла мимо. От матери пахло беломором и еще чем-то влажным и кислым, вроде перепревшего сена. Комарова подумала, что мать копалась на огороде или что-то делала в сарае, где прежние хозяева держали овец и коз, а теперь были свалены всякие инструменты и было темно, потому что с начала весны батя так и не заменил перегоревшую лампочку. Единственная комаровская коза Дашка жила в маленькой пристройке, потому что для нее одной сарай был слишком большим. Она, наверное, грустит сейчас в своей пристройке и ждет, когда мать или старшая Комарова придут ее доить, и Комаровой хотелось пойти теперь туда и, сидя на корточках, сжимать пальцами гладкие и теплые дашкины соски́, а не торчать в душной комнате и маяться от скуки. Но только она собралась открыть рот и попросить мать отпустить ее доить Дашку, как та добавила:
– И чтоб сидела дома. Увижу, что опять куда-нибудь потащились…
Она остановилась, как будто раздумывая: вернуться и дать дочери подзатыльник, чтобы поняла уже наверняка, или уйти так.
– Так ты все поняла?
– Да, мам, поняла.
Дверь за Натальей закрылась, и Комарова осторожно выдохнула. Стало слышно, как в кровати посапывает Саня: Комарова подошла к нему и положила руку ему на лоб. Лоб у Сани был сухой и горячий, и на лбу и на щеках была красная сыпь.
– Что, Санечка, простыл?
Она погладила Саню по голове, потом подтянулась на руках и присела на край кровати. За окном послышалось звяканье колокольчика и низко, протяжно замычала корова, то ли жалуясь на жару и укусы насекомых, то ли на свое переполненное вымя, то ли просто так. Дина, мывшаяся под столом, вытянула шею и злобно сверкнула желтыми глазами. Под столом у стены стояла ополовиненная бутылка водки.
«Спи, моя радость, усни! – затянула шепотом Комарова. – В доме погасли огни… Месяц в окошко глядит, в доме все стихло давно… В погребе, в кухне темно…» Саня тихо застонал и пошевелился, и она, замолчав, потрогала красные пятна у него на лбу и слегка надавила на самое крупное. Пятно у нее под пальцем стало как будто бледнее, но через некоторое время проступило еще ярче, похожее на ожог от крапивы или борщевика, из которого Комаровы как-то пытались сделать дудку, и потом с ладоней у них пооблезала вся кожа.
– Что, Санечка, ты на речку ходил? Купался? – рассеянно спросила Комарова, зная, что Саня уж точно никуда не ходил: из всех братьев и сестер он был самый тихий и во всем слушался матери, а отца просто боялся и старался не попадаться ему на глаза. Ленка Саню очень любила и говорила, что, когда он вырастет, он обязательно уедет учиться в город и станет там профессором.
Дверь скрипнула, и в щель просунулась белобрысая, как у всех Комаровых, голова.
– Ну, чего там с Санькой? Заболел, да?
– Олька, что ли? – Комарова поискала глазами, чем можно запустить в сестру, но ничего подходящего под рукой не было.
– Светка я. – хихикнула одна из близнецов. – Ну, чего с Санькой-то?
– Ничего. Заболел.
– А-а… понятно… – Светке явно не хотелось уходить. – И чего теперь?
Комарова промолчала.
– У Мироновых мелкий помер год назад. – Светка шмыгнула носом. Говорила она равнодушно, как будто о погоде или о расписании электричек. – Фельшерица сказала, что в город надо было везти, потому что тут нет этих… ну, этих… антибиотиков. – последнее слово Светка произнесла со значением. – А если наш Саня тоже помрет?
– Заткнись лучше.
– Да чего вот ты сразу? – мелкая вытянула шею, пытаясь рассмотреть сыпь на лице Сани, но в комнату зайти не решалась.
– Иди отсюда, а то тоже заболеешь и помрешь.
– Да ну тебя! – Светка фыркнула. – Много о себе воображаешь!
Не дожидаясь ответа, она прикрыла дверь. Татьяна уговаривала их с Ленкой остаться на ночь и даже обещала, что поговорит с Натальей Николаевной. Мать была неверующей, потому что считала, что образованному человеку, учившемуся в институте, вообще неприлично верить в Бога, и Татьяну недолюбливала, но, наверное, переночевать бы все-таки разрешила. Комарова вздохнула. Она была добрая, Татьяна, и в доме у нее всегда было чисто и пахло ладаном и воском, как в церкви. И кошка у Татьяны была совсем не такая, как у Комаровых, а толстая, трехцветная и ласковая – правда, мышей не ловила. Комарова посмотрела на спавшую под столом Дину: та, почувствовав на себе ее взгляд, приоткрыла один глаз. Комарова осторожно сползла с кровати, влезла на четвереньках под стол и протянула руку к бутылке. Дина открыла глаз шире: в поблескивающей желтым прорези дернулся черный кругляшок зрачка. Бабка говорила, что Дина – не обычная кошка, а камышовая, и что ей положено жить не в доме, а в лесу, но Ленка, притащившая Дину с овощебазы, закатила скандал, и Дину оставили.
– Ну, чего ты… ты ж не пьешь… – примирительно прошептала Комарова и, схватив бутылку, шарахнулась в сторону, прежде чем Дина успела вцепиться ей в руку. – Вот так тебе, дура…
Дина злобно на нее посмотрела, поскребла когтями деревянный пол, сдирая с него облупившуюся краску, и снова улеглась, подобрав под себя лапы.
– Дура. – повторила Комарова и, пятясь, вылезла из-под стола.
Бабка в свое время учила их, что от жара и простуды нужно растирать водкой с уксусом. Когда батя однажды сильно простудился и лежал в бреду, она извела на это дело целую бутылку: очнувшись, он схватил бабку за горло и, если бы вовремя не подоспела мать, наверное, задушил бы. Комарова представила себе лицо бати и подумала, что зря бабка его растирала, может, если бы не растирала, он бы тогда помер. Она порылась в материном шкафу: на одной из полок лежала всякая ветошь и мелкие тряпочки, которыми мать иногда протирала пыль, но в основном просто хранила на всякий случай. Взяв несколько тряпочек, Комарова осторожно прикрыла дверцу шкафа и вернулась к Сане.
Татьяна им рассказывала, как Сергия в позапрошлом году позвали в Еглизи крестить ребенка, и он поехал по самой весенней распутице. Когда приехал, выяснилось, что ребенок не один, а целая тройня, и как раз посреди таинства, когда Сергий мазал миром ручки второго ребеночка, мать, бывшая в комнате, вдруг завыла: за что Господь наказал ее тройней, она и одного-то не знает, куда девать, ну ладно бы еще два, но тройня! Надо было, мол, написать от них отказ в больнице в Тосно, и дело с концом, но она была после родов такая ошалевшая, что не догадалась, а после – пожалела.
– Так бы вот всю рожу ей и расцарапала! – сказала Татьяна, положила на тарелку булку, густо намазанную малиновым вареньем, и сделала рукой такое движение, как будто сейчас была готова вцепиться в лицо бабе из Еглизи.
– Ну вы даете, тетя Таня! – уважительно протянула Ленка.
Татьяна в ответ только вздохнула и перекрестилась.
Комарова плеснула на тряпочку водки и аккуратно обтерла Сане грудь и плечи. Саня пошевелился и приоткрыл глаза.
– Катька…
– Ты молчи лучше, Санечка, тебе разговаривать нельзя. – Комарова намочила еще одну тряпочку, положила Сане на лоб, потом, зажмурившись, отхлебнула из бутылки: горло обожгло, как крапивой.
– Катька, а мать где?
– Ушла, Санечка.
– Куда ушла? – выдохнул Саня. – Ну, куда ушла, Катька?
– Да черт ее знает. Гулять пошла на ночь глядя, Санечка.
От водки стало тепло по всему телу, и в коленях как будто покалывало иголками. Комарова сделала еще один глоток, поморщилась и поставила бутылку на стол. В лесу хрипло заорала какая-то птица, потом раздался треск, будто рухнуло старое дерево.
– Это птица с дерева навернулась. – Комарова хихикнула. – Сидела на ветке, червяков из-под коры таскала, таскала, потом стала толстая, как наша бабка Женька, ветка под ней обломилась, и она вниз навернулась. Жалко, ты не видел, Санечка, как она в болото бухнулась. Теперь ее друзья вокруг летают и думают, как ее оттудова доставать. Хочешь посмотреть на птицу?
Она сложила ладони лодочкой, растопырила пальцы, чтобы получились как бы птичьи крылья, поднесла к Саниному лицу и изобразила, как птица летит.
– Жарко, Катька… сними одеяло.
– Нельзя, Санечка.
– Ну, сними…
Саня снова закрыл глаза и задышал мелкими частыми вдохами, как будто ему не хватало воздуха. Сыпь на его лице проступила еще ярче.
– Ты бы лучше поспал, Санечка.
– Не могу спать. Мне пауки снятся. – Саня скривил губы, собираясь заплакать.
Комарова подумала немного, взяла бутылку и еще из нее отхлебнула.
– Не бойся, Санечка, если к тебе хоть один паук сунется, я так дам ему по морде, что он у меня до самого Сусанина побежит.
Саня раздумал плакать и слабо улыбнулся.
– Смелая ты, Катька.
– До самого города у меня побежит. – Комарова взяла со стола бутылку и сделала еще один глоток. – Сволочь такая.
Саня полежал еще немного, глядя широко раскрытыми глазами в потолок, потом с усилием отвернулся к стене и, кажется, уснул. Комарова отпила еще из бутылки, потом, увидев, что осталось совсем на донышке, осторожно поставила бутылку на пол. В горле першило, но на душе стало немного легче. Она погладила Саню через одеяло.
– Спи, Санечка, спи… поправляйся. А если паук придет, я его... мы на него Лорда натравим, и Лорд его загрызет… – она попыталась погрозить кулаком, но пальцы были как будто деревянные и никак не хотели сжиматься.
Отец Сергий говорил, что когда-то давно люди совсем не болели, жили очень долго и все как один веровали в Бога, но черту стало завидно, что люди так долго живут и славят Бога, потому что очень мало их попадало к нему в преисподнюю. Черт обратился с жалобой к самому Господу, и долго плакал и выл, но Господь не хотел его слушать, и тогда черт сказал, что, если бы люди болели, то многие из них отвернулись бы от Бога. После этого Господь позволил черту наслать на людей болезни и немощи, и черт семь дней и семь ночей сидел в преисподней, выдумывая для людей разные напасти, а когда он наслал их на людей, то многие из них действительно стали роптать и отвернулись от Бога.
В комнату заглянула Ленка, на цыпочках подошла к Комаровой и протянула ей что-то в чашке.
– На вот… наши тебе оставили.
Комарова вынула из чашки чайную ложку и попробовала: это оказалась сметана пополам с вареньем из черной смородины.
– Ну, как? Вкусно?
– Нормально. – сказала Комарова, съела еще пару ложек и отдала Ленке. Ленка сунула в рот полную ложку и с интересом посмотрела на неподвижного Саню.
– Чё, болеет наш Санька?
– А то ты не видишь.
– Может, его к фельшерице надо? – Ленка, подумав, отдала сметану с вареньем обратно сестре.
– А чего фельщерица сделает?
– Ну, не знаю… посмотрит там, пропишет чего-нибудь…
– Да чё она посмотрит-то? – удивилась Ленка.
Фельшерица Александра Михайловна, которая работала со вторника по пятницу с девяти до четырнадцати, была известная всему поселку дура и от всего подряд лечила парацетамолом и клизмой, а если парацетамол и клизма не помогали, то говорила, что с этим нужно ехать в город. В основном, конечно, никто никуда не ехал: ждали, пока само пройдет. Комарова поморщилась и выбрала из чашки остатки сметаны.
– Простудился он. Поболеет и само пройдет.
– Где это он простудился? – Ленка фыркнула. – Кто это в июле простужается?
Она постояла еще возле кровати, потом молча присела рядом с сестрой и прижалась к ней плечом. За окном стояли мутные сумерки, и было непонятно, который сейчас час, и было слышно тревожное дыхание Сани, как будто он тонул и пытался ухватить слабеющими губами немного воздуха. От выпитой водки, духоты и усталости тянуло в сон, и Комарова сама не заметила, как задремала, и сквозь дрему слышала, как Ленка ушла, осторожно ступая на скрипящие половицы, и как мать за что-то ругает Светку, и та отвечает ей противным плаксивым голосом, что она чего-то там не брала и чего-то там не делала. Хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, хоть бы у Татьяны на ее чистенькой кухоньке с красной геранью на подоконниках и дымящимся на конфорке блестящем чайником с цветочком, который при закипании издавал такой пронзительный визг, что Дружок во дворе просыпался и отвечал ему тоскливым воем. Хотелось Татьяниных пирожков с творогом или с капустой, чтобы они с Ленкой их ели, а Татьяна рассказывала им что-нибудь про своего Сергия, как он уехал на попутной машине куда-нибудь, куда не ходят электрички, чтобы встретить в Божьем мире чьего-нибудь ребеночка или проводить в жизнь вечную какую-нибудь столетнюю бабку. «Поболеет, и само пройдет, – пробормотала Комарова себе под нос. – В июле не простужаются».
В лесу снова что-то затрещало. Комарова представила, как большая птица села на верхушку елки, та под ней накренилась и закачалась, и птица стала смешно вертеть головой во все стороны и хлопать крыльями. Комарова зажала рот рукой и хихикнула, но птица в ее воображении почему-то все росла и росла – вот она стала больше собаки, а теперь – размером с корову, и все продолжала расти, хлопая большими крыльями и разевая громадный клюв, в котором виден был красный язык, похожий на огонь в печке. Елка под ней гнулась и трещала, и наконец птица сильно забила крыльями, взлетела и полетела прямо к их дому. Комарова встряхнула головой, вскочила и с силой захлопнула окно, так что зазвенели стекла, и она испугалась, что, если мать дома, то она услышит и придет ругаться. Саня тихо застонал, но не проснулся. Комарова перевела дух, снова села рядом с ним и погладила через одеяло.
– Спи, Санечка, спи, не бойся. Мы тебя никому не отдадим. Слышишь, Сань?
Она покосилась в сторону окна, но там уже совсем стемнело и ничего не было видно.
3
– Ну вот, как-то так… – Олеся Иванна теребила шейный платок, стараясь не смотреть на Татьяну, разливавшую чай в маленькие фарфоровые чашки. У одной из чашек – Татьяна взяла ее себе – была почти до основания отколота ручка.
– Так все-таки лучше, чем из семьи уводить… – Татьяна говорила медленно, старательно подбирая каждое слово.
Чашка чуть слышно звякнула о блюдце. На чашке и на блюдце были нарисованы маленькие красные тюльпаны: у каждого один лепесток был отогнут, обнажая желтую внутренность цветка, и было по два маленьких зеленых листика (кое-где они совсем стерлись, и от них остались только зеленые крапинки). У матери в Вязье тоже был такой сервиз: с советских времен до Олесиной юности дожили из него только две чашки, три блюдца и заварочный чайник без крышечки, но мать все равно берегла этот чайник, как будто он был бог весть какой драгоценностью. Олеся Иванна вздохнула.
– А я думала, ты меня сейчас ругать будешь…
Татьяна пожала плечами и села напротив.
– Перед Богом это – большой грех, Олеся Ивановна. Но мой Сережа говорит, что Бог милостив и прощает больше, чем люди. Бог тебя простит.
Олеся Иванна поджала губы и снова принялась теребить свой платок. Разговор не клеился: она пришла за тем, чтобы Татьяна ее застыдила, и у нее нашлись бы силы послать Петра к чертовой матери, но попадья вместо того, чтобы стыдить, стала ее жалеть, и от этой жалости и даже от чая, к которому Татьяна поставила меда, малинового варенья и маленьких, с утра испеченных пирожков с творогом, было тошно. Из всех мужиков, которых знала Олеся Иванна, Петр был, наверное, самым добрым, да и самым красивым – что греха таить, но просто так взять и расстаться с ним она все равно побаивалась: ее бывший на прощание так ее исколотил, что у нее началось кровотечение, и бабка Женя, пришедшая ее проведать, сказала, что она, скорей всего, была беременна и у нее случился выкидыш. Олеся Иванна тогда разрыдалась, а бабка Женя утешала ее: мол, если и выкидыш, то совсем ранний, у ребенка тогда еще и души быть не могло, потому что душа у человека появляется только к седьмой неделе, а до этого он так, что-то вроде кабачка на грядке.
– На прошлой неделе Оксанка его заходила, смотрела на меня, как гадюка. Она мне, если что, все волосы выдерет.
Татьяна коротко глянула на Олесю Иванну, но ничего не ответила. На ее памяти Олеся только однажды пришла на службу, в платке, из-под которого выбивались завитые темные локоны, и в красной шерстяной юбке, и одна из бабок, схвативши ее за эту юбку, начала ей пенять, что, мол, мало того, что в красном заявилась в Божий дом, так еще и юбка короткая – только колени и закрывает, и что ты, шалава такая, к Господу явилась свои бесстыжие ляхи показывать. Олеся покраснела, часто-часто заморгала, и по лицу ее потекли перемешанные с тушью и тенями слезы. Сергий тоже тогда впервые на памяти Татьяны рассердился: перестал читать, побежал в подсобное помещение, схватил там швабру, ткнул ее в руки бабке и сказал громко, на всю церковь: «Вот тебе, дура старая, епитимья! Будешь до самого Покрова пол мести!» Бабка аж присела: «Буду, батюшка, буду, до самого Покрову буду пол мести, до самого Покрову…» и, не выпуская из рук швабры, начала креститься.
Сергий в тот день до самого вечера ходил невеселый, а потом всю ночь ворочался в постели, мешая Татьяне спать, и уже почти под утро, осторожно дотронувшись до жениного плеча, сказал тихо:
– Она ведь больше в церковь не придет, Таня.
– Так ей, может, оно и не нужно? – сонно спросила Татьяна. – Может, она так только…
Сергий в ответ промолчал. Татьяне хотелось думать, что он наконец заснул, но она понимала, что он так и пролежал до самого рассвета с закрытыми глазами, и больше они об этом не заговаривали.
– Так может… – Татьяна помялась немного, но наконец решилась. – Может, пойдешь сама к Оксане? Повинишься? Она, может, и простит тебя по-христиански? А?
Олеся Иванна сначала уставилась на Татьяну так, будто увидела, что вода в Оредежи вдруг потекла в обратную сторону, а потом невесело рассмеялась.
– Да что ты такое говоришь, Таня! К Осанке пойти? К этой стерве?
– Она в церковь ходит и в Бога верует. – твердо сказала Татьяна и, сказав, спохватилась: вышло глупо.
Олеся Иванна поджала губы.
– А ты что, думаешь, если в церковь ходит – так сразу и в Бога верует? Эта твоя Оксанка, когда Петр за продуктами в Суйду ездит, сама таскается за станцию, в дачный поселок. Чего она, скажи, там забыла?
Татьяна молчала, потупившись. Олесе стало немного совестно: Оксанка, скорее всего, ходила за станцию по какой-нибудь самой обыкновенной надобности, вроде покупки хозяйственного мыла, продававшегося там на рубль двадцать дешевле, потому что и в дурном сне трудно было представить, чтобы кто-то на нее там позарился. Над остывающим чаем вились последние тонкие усики белого пара.
– Она и детей своих бьет. – добавила Олеся Иванна. – Ее девчонка-то, когда в церкви, у нее голова платком прикрыта, чтобы перед Богом стыдно не было, что ей мать родная волосы дерет, а ко мне-то в магазин она без платка ходит. Вот твой Сергий говорит, что Бог все видит. А я, по-твоему, перед Богом где виновата? Я никого в своей жизни никогда не ударила. – в голосе Олеси Иванны послышалось с трудом сдерживаемое рыдание, и Татьяна невольно опустила глаза, чувствуя, что сейчас услышит то, что слышать ей совсем не положено, и что, сказав ей это, Олеся потом пожалеет. А остановить ее теперь – так обидится, и выйдет, что Татьяна вместо того, чтобы помочь, сделала только хуже. Ах, был бы сейчас Сережа…
– Я людям всю свою жизнь верила, – продолжала Олеся, – мне, когда четырнадцать было, мой отчим сказал – «приходи в сарай, поможешь мне там инструмент разобрать», я и пошла… – она отпила из чашки остывшего чая, поперхнулась и закашлялась. Татьяна смотрела на нее, как будто окаменев, и больше всего на свете ей хотелось, чтобы Олеся замолчала и не говорила ничего больше, но сил перебить ее Татьяна в себе не находила, и потому только подвинула к Олесе тарелку с пирожками. Олеся Иванна взяла пирожок, откусила от него, усмехнулась и горестно покачала головой. Она редко об этом вспоминала, жила себе и жила, а когда все-таки вспоминала, то до слез становилось жаль себя и своей молодости, загубленной как-то одним махом, и ладно бы еще в один вечер или ночь – в темное время суток, по ее разумению, было легче смириться с чем-то дурным, но тогда-то было утро, и когда Олеся вышла, шатаясь, как пьяная, из проклятого сарая, то на чистом, без единого облачка небе как ни в чем не бывало светило солнце, равнодушно и без разбора согревая всех своими лучами, и какие-то птицы весело трещали в кустах сирени, росших вдоль забора, и в теплом как парное молоко воздухе звенели стрекозы и были слышны веселые крики играющих где-то в соседних дворах детей. И Олеся, понимая, что она уже никогда не сможет так же, как раньше, играть с ними и смеяться, комкала во влажных скользких пальцах подол своего платья и тихо скулила, как скулит побитая злым хозяином собака.
– А зачем же ты… – Татьяна сделала глубокий вдох, как перед прыжком в холодную воду. – Зачем же ты пошла, Олеся?
Олеся Иванна пожала плечами.
– А как было не пойти? Матери сказать было? Она нас с братом и так била, а тут… – она махнула рукой. – Вообще убила бы.
Старший брат Олеси Иванны Кирилл, угрюмый, не женатый и не пьющий, жил на другом конце Поселка и работал на станции инженером. Несколько лет назад, когда Олесиного отчима нашли на болотистом берегу Оредежи под старым пешеходным мостом – там, где река была широкой, а течение медленным, – говорили, будто это Кирилл его утопил, но местный следователь, посмотрев в страшное лицо утопленника, сказал, что нечего тут и разбираться: выпил человек лишнего, спустился к реке по нужде, упал, а подняться уже не смог – так и захлебнулся вонючей илистой жижей. Мужики, ходившие к Олесе, боялись Кирилла как огня и сами просили ее, если что, не жаловаться на них брату: она никогда и не жаловалась, в глубине души веря разговорам про смерть отчима, и, если брат изредка заходил навестить ее и спрашивал о жизни, говорила, что все у нее хорошо, жизнь идет потихоньку, люди, как всегда, покупают ржаной хлеб и макароны «ушки», а два килограмма пряников залежались и зачерствели, так что пришлось их совсем выбросить. Кирилл хмыкал в черные усы, смотрел на сестру испытующе, но, больше ничего от нее не добившись, уходил к себе.
Последний раз они разговаривали по душам на похоронах матери, да и то, нормального разговора не получилось, и Олеся потом ругала себя, что сама все испортила. Народу тогда пришло мало: мать и так-то в Поселке ни с кем не дружила, а после смерти мужа замкнулась в себе и тихо пила запоями, живя с денег, которые давали ей Кирилл и Олеся. Так и умерла – тихо, не просыпаясь. Кирилл позвал из Вязья двух теток, которые поголосили над могилой положенное, даже чуть дольше, поели приготовленной Татьяной кутьи и уехали обратно на первой электричке.
– Вышла бы ты поскорее замуж, Олеська. – Кирилл смотрел на нее с прищуром и перекатывал беломорину из одного угла рта в другой. – Тебе нормальный мужик нужен.
– Где я его тебе найду, нормального? – усмехнулась Олеся. – За мной вон таскаются, а толку с них, как с козлов молока…
Брат нахмурился, сжал кулаки, и Олеся почувствовала, как по спине ее вверх, к затылку, пробежал холодок – как будто сквозняк подул.
– Так вот чтобы от этих вот козлов, которые таскаются, тебя защищал.
– Так ведь ты есть. – сказала Олеся и осеклась: Кирилл стоял перед ней, наклонив голову и глядя исподлобья, как чужой. И тут она увидела, что ее рука как бы помимо ее воли потянулась к нему и сначала осторожно дотронулась, а потом сжала его плечо, и Олеся услышала вроде бы свой, но как будто доносившийся откуда-то издалека голос.
– Киря, скажи, а это ведь ты отчима…
Кирилл вздрогнул, сбросил с плеча ее руку и выплюнул на землю папиросу.
– Ты что, совсем сдурела? Что ты такое несешь?!
– Да я… – Олеся чувствовала, что заливается краской. – Я бы никому, если что… Киря, я бы никому…
– Дура. – зло повторил Кирилл. – Еще и на маткиных похоронах догадалась…
– Да я… – пролепетала Олеся, но брат уже повернулся к ней спиной и зашагал прочь, сунув руки в карманы. Потом он долго не приходил, а, встречая сестру на улице, отворачивался. Однажды Олеся сама решила к нему прийти – сама не зная, то ли чтобы помириться (хотя с чего мириться, если вроде и не ссорились), то ли чтобы брат снова посмотрел на нее тяжело и угрюмо, а потом, может быть, все-таки пожалел ее и простил. Но когда она пришла после работы на другой конец поселка к его дому – хоть и одноэтажному, но большому и когда-то крепкому, потому что брат строил его в расчете на семью, которой так и не обзавелся, – и постучалась в дверь, ей никто не ответил.
«Наверное, на работе еще», – подумала Олеся Иванна, хотя в груди стало отчего-то беспокойно.
Она посидела еще немного на крыльце, колупая длинным накрашенным ногтем грубо обструганную балясину, подпиравшую треугольную крышу, и без удовольствия рассматривая запущенный двор со сваленными на самом видном месте досками. Позапрошлым летом Кирилл хотел пристроить к дому небольшой сарай, чтобы хранить инструмент; доски привез, но сарай строить так и не собрался, и они лежали без дела и уже начали портиться, и в дождливые дни на них появлялись хлипкие розовые грибы, которые дети называли «сопливцами» и любили раздавливать пальцами, так что от грибов оставалась вязкая капля жижи, действительно похожая на сопли, только что ярко-розовая, как пудра или помада. Ленка Комарова говорила, что как-то попыталась накрасить этой жижей губы, но та оказалась на вкус такой горькой, что потом Комарова полдня плевалась. Олеся Иванна после этого ее рассказа стала отдавать Комаровым остатки косметики, и иногда под закрытие магазина Комаровы прибегали и просили научить их краситься, и, если никого не было, Олеся ставила на прилавок маленькое зеркальце и учила их накладывать румяна, так чтобы щеки потом были одинаковые, а не казалось издали, что одна больше другой, и красить ресницы. Олеся Иванна усмехнулась, вспомнив, что младшей Комаровой это было интереснее, чем старшей, и она часто повторяла, что в городе, когда она туда переедет, никто ни за что не догадается, что она из деревни. По одной из досок деловито ползал большой жук с длинными усами, видимо, примериваясь, достаточно ли дерево размокло под дождями и рассохлось на солнце, чтобы можно было в нем поселиться. Олеся вздохнула, ковырнула балясину еще пару раз и закуталась плотнее в цветастый платок. Такой Кирилл хороший мужик – и руки, и голова на месте, и не пьет, и красивый (она подумала немного и решила, что, может быть, и не такой уж красивый, но уж получше многих в Поселке, а с лица воду не пить), а живет бобылем, дом у него потихоньку ветшает и вон, доски во дворе гниют почем зря. Жалко.
Ближе к вечеру стало прохладней, и она наконец решилась, встала, отряхнула подол и не сильно, не очень надеясь, что получится, толкнула дверь рукой. Дверь неожиданно приоткрылась, и из глубины дома пахнуло тяжелым духом.
Брата Олеся нашла на полу в кухне: он лежал ничком, но голова его была повернута набок, так что было видно пол-лица с приплюснутым от долгого лежания носом. В первое мгновение Олеся Иванна испугалась, что Кирилл мертвый, но из его полуоткрытого рта слышно было тихое хриплое дыхание. По нижней губе, некрасиво оттопыренной и влажной, ползала сизая муха. Олеся Иванна первым делом прогнала муху, потом распахнула в кухне все окна, чтобы спертый воздух немного рассеялся. Несколько бутылок с криво наклеенными этикетками стояло рядком у стены. Олеся посмотрела на них, подумав только, где брат мог взять такую дрянь, разве что в универмаге у станции, потом взяла лежавшую возле рукомойника тряпку, намочила ее и протерла пол сначала в кухне, потом в коридоре, заглянула в спальню – пустую и как будто нежилую, только возле стены стоял платяной шкаф с полуоткрытой дверцей, а к другой прижался старенький диван с брошенным на нем пледом. Олеся взяла этот плед, вышла с ним на крыльцо, вытряхнула от пыли, думала сначала отнести его обратно в спальню, но вернулась на кухню, где лежал Кирилл, укрыла его и подоткнула плед с боков, чтобы под него не проникал вечером сквозняк. Кирилл, пока она возилась, не проснулся и даже не пошевелился, только один раз тяжело вздохнул. Олеся Иванна погладила его сквозь плед по плечу, и горло ей вдруг сдавило щемящей жалостью, глаза защипало, и по лицу потекли горячие капли. Она хлюпнула носом и утерлась тыльной стороной ладони.
– Ну зачем же ты это, Киря… Ты ж не пьешь совсем…
Она провела пальцами по его жестким цыганским волосам, дотронулась до лба, покрытого липкой испариной.
– Ты бы, Киря, сарай лучше доделал, вон у тебя доски скоро во дворе совсем сгниют…
Брат молчал, и, хотя умом Олеся понимала, что молчит он просто потому, что спит тяжелым пьяным сном, ей казалось, что он все слышит, понимает и молчит специально, потому что сердится на нее.
– Мне, Киря, идти пора… – сказала она обиженно. – Мне завтра на работу.
Но брат все так же молчал, даже как будто еще безнадежнее.
– Ладно, Киря, я пойду. – повторила Олеся и прибавила: – Я к тебе больше приходить не буду, ты сам приходи, когда надумаешь.
– Ладно, Тань, я пойду. – Олеся Иванна скомкала в пальцах угол платка и подумала, что он, наверное, весь уже замусолился, и надо бы его постирать. – За пирожки тебе спасибо.
– А с собой, что ли, не возьмешь? – встрепенулась Татьяна. – Я их только сегодня утром пекла.
Ей хотелось сказать, что не надо так скоро уходить, и что она будет рада, если Олеся посидит с ней еще немного, хоть до самого вечера, но правильные слова почему-то не выговаривались, и Татьяна в очередной раз пожалела, что нет дома Сергия.
– А Сережа твой со службы придет голодный, ты что ему скажешь? – Олеся нахмурилась, но в глазах у нее загорелся лукавый огонек. – Что Олеська заходила и все сожрала?
– Олеся Ивановна, да ты что такое говоришь? И ничего я такого про тебя не скажу… – пролепетала Татьяна, и Олеся Иванна, не удержавшись, прыснула и закрыла лицо руками. Татьяна уставилась на нее растерянно и тоже засмеялась.
– Ну, Таня, ты даешь! – Олеся Иванна, взяв со стола салфетку, осторожно, чтобы не размазать тушь, промокнула выступившие из глаз слезы. – Анекдот!
– Да ладно, какой еще анекдот…
– Знаешь, у нас в Вязье одна девица была, дурочка. – отсмеявшись, сказала Олеся. – Хорошая такая девица, и внешне тоже ничего – ну, может, лицо чуть широкое, но для деревни-то… С матерью жила она, меня, может, была чуть постарше – нам тогда было лет по двадцать, так вот она к своим двадцати ни писать, ни читать не умела, только и делала, что по дому прибиралась и летом копалась на огороде. Она и к нам приходила грядки полоть – очень ей это нравилось. Сидит себе, полет и полет, и мошка ее даже как будто не кусает. Так вот, как-то в августе парни у нас стога собирали, и она пришла за ними на поле, встала у большущего стога и говорит, можно, мол, и мне к вам на стог? Они смеются, говорят, нельзя, мол, а она все просит и просит, и один из них ей и сказал: «Сымай трусы, тогда можно на стог, а в трусах на стог нельзя!» Ну, она и сняла!
Олеся Иванна снова рассмеялась, на этот раз как-то невесело, и в уголках глаз у нее выступили слезы, которые она смахнула уже рукой, не обращая внимания на тушь.
– Сняла трусы и полезла к ним на стог, Таня!
Татьяна тихо охнула, не зная, жалеть ей бедную блаженную или смеяться над ней. Наконец она спросила:
– И как же она потом?
– Что потом?
– Ну… без трусов-то… как она? – выговорила Татьяна, и ей подумалось, что опять она сказала что-то глупое и невпопад.
– Да что ей! – Олеся махнула рукой. – Ну, затащили они ее на стог, посидела она там, сколько ей хотелось, повертела головой в разные стороны, потом слезла и домой пошла. А трусы они ей так и не отдали: прицепили к шесту и воткнули в стог, чтобы было навроде флага. Так там они и висели, пока сено не убрали.
Татьяна помолчала. Ей казалось, что Олеся ее не любит и смеется над ней, и все-таки приходит к ней жаловаться на жизнь или спросить совета, потому что больше ей пойти не к кому, хотя за станцией жила ее подруга Лизавета Ивановна или просто Люся – бойкая молодая женщина со светлыми, как будто сожженными перекисью волосами (за глаза ее в поселке называли «чухонкой»). Олеся Иванна как-то сказала, что подружилась с Люсей только потому, что вместе им было сподручнее знакомиться с парнями: чухонка Люся и красивая цыганской красотой Олеся притягивали взгляды, да еще и обе Ивановны – тут хочешь не хочешь, а западет в память, а после – и в душу. Правда, когда несколько лет назад Олесе и Люсе одновременно приглянулся один мужчина из дачников, Люся уступила, хотя и долго потом, когда этот дачник уже уехал к себе в город и думать забыл о летних приключениях, не приходила к Олесе из-за станции, но потом вдруг пришла как ни в чем не бывало в магазин, принеся с собой коробку клюквенной пастилы, и после закрытия просидела с Олесей за чаем до позднего вечера. И все-таки к Люсе Олеся Иванна в случае чего не шла – может быть, потому, что не она в тот раз уступила, а, может, потому, что были и другие разы, о которых она Татьяне не рассказывала.
– Ладно, Таня, правда, пойду я… засиделась уже. Спасибо тебе. Извини, если чем обидела.
– Да что ты, Олеся Иванна, ничем ты меня не обидела! – Татьяне показалось, что ее голос звучит фальшиво, и некстати вспомнилось, как она, придя как-то в магазин за сгущенкой, не увидела Олесю за прилавком, и вместо того, чтобы позвать ее, зашла за прилавок и тихонько приоткрыла дверь склада, и там в маленьком пыльном помещении, залитом летним солнцем, увидела Олесю и Петра, и Олеся повернула к ней испуганное лицо, окруженное растрепанными волосами и пляшущими в ослепительном свете пылинками. Татьяна тогда поспешно захлопнула дверь, а Олеся ни разу потом не напомнила ей о том случае и вообще вела себя так, будто ничего такого не было.
– Точно не обидела? – спросила Олеся, видя, что Татьяна мнется, и решив, что таки наговорила лишнего, и зря рассказала про дурёху из Вязья – Бог знает, что попадья могла на это подумать.
– Да не обидела, не обидела, господи! – всплеснула руками Татьяна. – Ну, что ты себе придумываешь?
– Хорошо, если так. Сережу своего целуй от меня, – Олеся Иванна подмигнула Татьяне, и та совсем растерялась, – скажи, приду к нему как-нибудь на службу в красной юбке, бабок его пугать.
На улице было так жарко, что воздух казался подернутым рябью и мелко дрожал над зарослями лопухов вдоль дороги. Олеся Иванна ленивым движением стащила с шеи платок: шея у нее была красивая, белая, с аккуратной яремной ложбинкой – разве что чуть полноватая. Один из дачников, с которым она гуляла позапрошлым летом, сказал ей как-то, что у нее шея как у Екатерины Второй на портрете в Русском музее, и нежно погладил ее затылок кончиками пальцев (Петр так никогда не делал). Олеся Иванна в музеях не бывала, если не считать поселкового краеведческого, но ей было приятно думать, что она чем-то похожа на Екатерину Вторую, которая – об этом Олеся где-то читала – была в молодости известной красавицей. Татьяна жила далеко от Олесиного магазина, поэтому знакомые навстречу почти не попадались, и Олеся Иванна медленно побрела по неширокой дороге между домами, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза.
Все-таки у нас лучше, чем в городе. Тишина, цветы вдоль дороги качаются, шмели жужжат. Блестящая бронзовка деловито копается в белой корзиночке бузины. Олеся Иванна остановилась возле бузинного куста, некоторое время рассматривала бронзовку, отливающую синим и зеленым, потом осторожно дотронулась до нее кончиком пальца: жук раздраженно загудел, расправил надкрылья, выпустил из-под них пару прозрачных рыжеватых крылышек и тяжело перелетел на другое соцветие.
– Глупый, – насмешливо сказала она, – я же тебя только погладить хотела.
Хорошо быть жуком: красивый, блестящий, перелетаешь себе с цветка на цветок, пьешь сладкий нектар, и ни до кого-то тебе дела нет. Она как-то спрашивала у одного городского – не у того, который сравнил ее с Екатериной Второй, а у другого – у жуков оно как устроено: женщины такие нарядные и блестящие, или парни?, и городской – она помнила только, что у него были квадратные очки и коротко подстриженная бородка, рассмеялся и ответил, что жуки все одинаковые и все на одно лицо. Олеся тогда подумала, что он дурак и бородку себе отпустил, чтобы казаться умнее, потому что не может быть в природе так устроено, чтобы все были на одно лицо.
Она закинула руки за голову и потянулась. Хорошо-то хорошо, а все равно лето короткое, потом как зарядят дожди в сентябре, а если не повезет – так прямо в середине августа, и станет поселок серым, скучным, дачники все поразъедутся, и в магазин будут заглядывать только мужики за бутылкой и пачкой беломора да бабки, которые приходят больше чтобы поговорить, и проболтает такая минут двадцать про своих детей и внуков, уехавших в город и ее бросивших, а купит на два рубля, да еще прибавит, что и пряники ей черствые и хлеб вчерашний, и тушенка несвежая (это тушенка-то! да эту же самую тушенку полярники с собой в экспедиции берут). И сиди так до конца мая с мужиками и бабками, хоть в Оредежи с этого топись.
– Эй, Олеська!
Олеся Иванна вздрогнула: навстречу ей шел Петр. В зубах у него была зажата незажженная беломорина (он часто так ходил, так что получалось, что курил он на самом деле немного, и от губ его пахло сухим табаком, а изо рта не шло кислого запаха, который бывает, если курить по-настоящему). Олеся Иванна остановилась, сложив руки на груди и склонив набок голову (хорошо все-таки, что она сняла с шеи платок – красивая у нее шея). Петр неторопливо подошел к ней, огляделся – нет ли кого поблизости? – приобнял за талию и ткнулся носом в ее щеку, отчего зажатая в его зубах папироса согнулась пополам и надломилась.
– Дурак ты, Петька. – ласково сказала Олеся Иванна и оттолкнула его от себя. – Дурак и не лечишься.
– Это ты чего это сегодня такая смелая? – удивился Петр и попытался поцеловать ее, но она отвернулась, так что он только глупо чмокнул губами воздух. – Ты чего это, а?
– Оксанка узнает, мне все волосы выдерет. – Олеся Иванна освободилась наконец от его рук и отступила на шаг. – А тебе, Петя, ничего за это не будет.
– Да чего Оксанка… – Петр сунул руку в карман, вытащил пачку «беломора», достал папиросу и зажал ее в зубах. – Чего тебе Оксанка сделает? Да и не узнает она…
– Узнает, как не узнает, – Олеся Иванна сделала еще один шаг назад. – Она меня, если что, в Оредежи утопит. Понимаешь ты, Петька? Нельзя нам с тобой… кончать с этим нужно.
– Да что ты заладила! – Петр уже начал сердиться. – Узнает! Утопит! Она только орать умеет, Оксанка. Ее мать думала, она певицей будет, а Оксанка поварихой стала на лесопилке. А талант куда денешь? Вот она и орет с утра до ночи. То на детей орет, то на соседей.
– А на тебя орет, Петя?
– Ну, что ж… бывает, что и на меня. – нехотя согласился Петр. – Ну, и что с того? Брань на вороте не виснет.
Олеся Иванна глянула на него исподлобья, но сама уже с досадой поняла, что не может больше на него сердиться – да и как на него было сердиться? Красивый он, веселый, стоит перед ней, улыбается, и солнце светит сквозь его растрепанные темные вихры. Дура ты, дура, Олеся Ивановна, ни за что у тебя не получился его прогнать, а если и прогонишь, так он через неделю-другую снова придет, вот так тебе улыбнется – и ты будешь вся его. Только врет он все, что его Оксанка только скандалить умеет: ее половина поселка боится, и еще все знают, что она в своей столовке продукты ворует. Олеся Иванна почувствовала, что снова начинает злиться на Петра, потому что столько баб по нему сохнет, даже ее подруга Люся как-то к ней заходила и вздыхала, что ей бы такого, как Петр, может, и была бы она в этой жизни счастлива. И правда, почему он не женился хотя бы на Люсе, а то взял себе эту Оксанку, у которой и в лучшие временя жопа была, как две олесиных, и рожа вся рыхлая, как кусок непропеченного теста, и на голове три волосины в шесть рядов – не баба, а настоящее пугало, и вдобавок злая, как черт, только дом ей большой и крепкий остался от родителей, и продукты она в столовке ворует…
– Слушай, Олеська… – Петр сжал ей плечо и встряхнул слегка. – Ну, чего ты, правда? Не узнает ничего Оксанка. Ну, не узнает же… откуда ей…
Олеся Иванна упрямо мотнула головой.
– Она твоя жена… у нее право… И грех это, Петя.
– Да ты что это? – Петр, не поняв сначала, вытаращил на нее глаза, а когда понял, выплюнул папиросу в кулак и растер ее пальцами. Олеся мрачно смотрела, как табак сыплется на землю, и бумажка от папиросы, подхваченная слабым ветром, отлетает в сторону и цепляется за колючки чертополоха.
– Грех это, Петя. И двое детей у тебя. Грех.
– Так… грех, значит… ты это что, с попадьей переговорила?
Олеся промолчала.
– Ну, чего, с попадьей, что ли? А то я думаю, что ты тут забыла, а...
Петр добрый, если ему сейчас уступить, он и не рассердится, и пойдет все, как прежде – даже и не припомнит потом. Но Олесе не хотелось уступать, потому что что ж это такое: уступчивую ее любят, а как скажешь слово поперек, так сразу или в зубы кулаком, или, если повезет, просто пошлют куда подальше, мол, катитесь колбасой, Олеся Ивановна, вы такая не одна в поселке красавица, и другие есть, посговорчивее. Дачники ей хоть подарки дарили – так себе подарки, конечно, но тот, который ее с Екатериной Второй сравнивал, подарил серебряный браслетик с гранатом и сережки – маленькие сережки, но зато тоже серебряные, и Олесе Иванне они очень идут. А этот… цветок какой-нибудь по дороге в магазин сорвет или конфет принесет кулечек – нате, Олеся Иванна, скажите и на том спасибо. Сам-то он тут что делает, дом-то у них с Оксанкой на той стороне реки.
– Сам-то ты что тут… – зло проговорила Олеся. – Или тоже к попадье какой ходил?
– А если и так? Тебе какое дело? – в ответ обозлился Петр. – На самой клейма негде ставить, а туда же…
– Что ты сказал?
– Что слышала! – Петр вспылил не на шутку, и, если бы дело было не посередь улицы средь бела дня, уже бы схватил глупую бабу за волосы и оттаскал как следует, чтобы знала свое место и не выпендривалась. – Что, к попадье ходила?! Что ты мне про грех? Тебе самой до конца жизни свои грехи отмаливать, а туда же…
Олеся Иванна почувствовала, как сердце ее забилось быстро-быстро, краска бросилась ей в лицо, и она отвернулась и закрыла лицо ладонями. Только бы люди не увидели, вон, вышли кто-то из-за поворота, сюда идут. Она сощурилась, но и без того было ясно, что это отец Сергий, потому что кому бы еще взбрело в голову в такую погоду одеться во все черное. Жарко ему, наверное. С Сергием была какая-то незнакомая женщина в цветастом сарафане и с повязанной легкой косынкой головой: она что-то торопливо говорила ему и, как показалось Олесе, порывалась дернуть за рукав подрясника, так что священник шел, склонив набок голову, и потому, наверное, не сразу увидел ее и Петра.
– Вот только этого тут не хватало. – Петр сердито сплюнул. – Вечно он, когда его не надо…
Олеся Иванна усмехнулась, выпрямилась, привычным движением поправила волосы и отвернулась.
– Чего, перед попом красуешься? – зло спросил Петр и попытался дернуть ее за руку, но она только отмахнулась и бросила через плечо:
– Не твое дело. А даже если и так…
Петр вдруг схватил ее за запястье и сильно сжал, так что она чуть не вскрикнула, но сдержалась и только процедила сквозь зубы:
– Пусти… не позорь перед людьми.
– Тебя опозоришь, как же…
– Да замолчи ты! Надоел уже хуже горькой редьки!
Жук-бронзовка тяжело плюхнулся в цветы бузины: то ли вернулся тот, которого она спугнула, то ли прилетел новый: их к середине лета бывает много, и дети ловят их и сажают в спичечные коробки. Олеся тоже как-то раз поймала в детстве жука в спичечный коробок: ей хотелось, чтобы он жил у нее в коробке, и она пыталась кормить его мелко нарезанными овощами, крошками печенья и водой с сахаром, но жук отказывался от всего и через несколько дней умер, и Олеся закопала его в том же коробке в дальнем конце огорода. И не вспомнить теперь, плакала она тогда или нет, может быть, и совсем не плакала, а сейчас хотелось заплакать, а слез не было – только обида стояла в горле, как будто она случайно проглотила кусок хлебного мякиша.
– Пусти, говорю тебе… люди увидят…
Петр хотел что-то ответить, но, видимо, и сам уже понял, что переборщил, и отпустил. Она потерла запястье. Ничего, главное, синяка не останется – у Петра рука легкая. И не уйти теперь: и назад не повернешь, и с дороги никуда не свернуть – одна дорога до самого старого моста, да и отец Сергий их уже заметил и помахал рукой. Олеся Иванна медленно пошла ему навстречу, спиной чувствуя, что Петр тащится следом.
– Добрый день, батюшка! Что-то вы сегодня рано…
Незнакомая женщина коротко и неприязненно взглянула на Олесю, потом на Петра и едва заметно усмехнулась. «Знает, все знает…» – промелькнуло в Олесиной голове. Ей хотелось сейчас же провалиться сквозь землю, а лучше – стать легкой, как одуванчиковый пух, оторваться от земли и полететь – далеко-далеко, куда понесет ее ветер, над полем и лесом, чтобы вокруг звенели всякие насекомые и трещали птицы, и солнце прорезывало своими лучами горячий дрожащий воздух. Чтобы все остались стоять с разинутыми ртами, глядя на нее – и потом бы, может быть, пожалели, что улетела от них Олеся Ивановна, потому что кто еще согласится отпускать в долг крупу и папиросы. Она глянула на богомолку и тоже усмехнулась – мол, знаем мы вас, в цветастых ваших платочках, и вы не лучше нас, и к какой-нибудь такой же – а не к тебе ли, часом? – Петька таскается на эту сторону. Женщина нахмурилась и опустила глаза.
– Так ведь сегодня вечерней службы нет. – Сергий пожал протянутую Петром руку и смущенно потер пальцами лоб, как будто ему было неудобно, что сегодня нет службы. – Так я домой сейчас… Может, вы на чай зайдете? – и, прежде чем Олеся успела возразить, что она сама только от Татьяны, торопливо добавил: – У Петра Григорьевича, наверное, дела, а вы зашли бы, Олеся Ивановна, составили бы Танюше женскую компанию, от меня какой толк…
Последние несколько слов он совсем промямлил и снова потер пальцами лоб. Комаровские девчонки говорили как-то Олесе Ивановне, что отец Сергий носит в карманах подрясника тянучие конфеты «коровки», чтобы раздавать детям.
– Конечно, батюшка, зайду с удовольствием…
– Вот и хорошо! – Сергий заметно обрадовался. – А вы, Светлана Ивановна, – он повернулся к богомолке. – Вы отцу Роману скажите, что, как пойдут брусника и шикша, Танюша для него соберет и перетрет с сахаром. И передавайте ему от меня всяческие пожелания, скажите, что скоро обязательно приеду к нему за напутствием.
– Все передам, батюшка, – женщина кивнула, еще раз искоса глянула на Олесю Иванну, потом поклонилась Сергию. – Простите меня, батюшка, и благословите.
Вечером небо стало темным, как будто его замазали дегтем, и покрылось мигающими глазкáми звезд. Олеся Иванна подвинула стул поближе к окну, приоткрыла створку, и в комнату потек густой цветочный запах. И для кого они только по ночам пахнут? Олеся Иванна глубоко вдохнула ароматный воздух, потом повернулась к круглому зеркальцу, стоявшему на столе, и принялась осторожно стирать влажной тряпочкой тени и румяна. Может, они просто так, для самих себя пахнут, как женщины без мужчин, бывает, красуются для самих себя, подводят глаза, красят губы, туфли себе выбирают с каблучком повыше, и мир от этого кажется им приветливей, даже если холодно и моросит дождь. Она вгляделась в свое отражение: вокруг глаз были темные разводы туши, а на щеках – пятна намокшей пудры. Видел бы ее сейчас Петька, вот бы испугался. А отец Сергий, наверное, не испугался бы и благословил бы ее такую чумазую. Хороший он, отец Сергий. И Татьяна его хорошая. Только детей у них почему-то нет, а говорят еще, что дети от любви рождаются, и что если от любви, то живут потом всю жизнь счастливыми. Олеся Иванна встряхнула тряпочку, сложила ее на другую сторону, потерла щеку. То-то вот у Комаровых большая любовь, старшие девчонки уже по всему Поселку бегают, скоро с парнями начнут гулять – и тоже любовь начнется. Жалко их. Всех жалко. И ее саму жальчее всех. Улететь бы, правда…
– Может, и нет ее, никакой любви. – сказала Олеся своему отражению. – И счастья нет никакого, только болтовня одна.
Ночь в окне отвечала ей спокойной густой тишиной. Тетка эта, которая к отцу Сергию вязалась, приехала из Сусанино – это там был отец Роман, совсем уже старенький священник, который десять лет назад венчал Татьяну и Сергия, и с тех пор Сергий к нему сильно привязался и иногда, когда позволяла служба, ездил к нему в гости. Олеся отца Романа никогда не видела, только много слышала о нем: поселковые бабки, путая врачевание души с врачеванием тела, а православного священника с деревенским знахарем, договаривались до того, что отец Роман наложением рук лечил ревматизм и заговаривал молитвой чирьи, но в целом из всего этого было ясно, что отец Роман – человек добрый и сведущий, и что со временем их Сергий, наверное, станет на него похожим, и про него тоже пойдут всякие слухи, а он не будет знать, как с ними бороться, и наконец махнет на них рукой – пусть болтают, что хотят, Господь разберется. Олеся наклонилась поближе к зеркалу, так что от ее дыхания на стекле возник мутный кругляшок, и осторожно сняла с ресниц катышки туши. Завтра опять в магазин идти, сидеть за прилавком, уговаривать поселковых бабок купить лишние двести грамм печенья и ждать, не хлопнет ли задняя дверь – не привез ли Петя на своей «Газели» товар. Разве что маленькая полосатая кошка Алёшка вспрыгнет на руки и ненадолго приласкается, а потом убежит на целый день, и вернется только к закрытию за положенной ей ложкой сметаны. И так изо дня в день, и не будет этим дням конца, пока Олеся Иванна не состарится, не станет одной из поселковых бабок и не начнет носить стоптанные туфли и кутаться по вечерам в серую пуховую шаль.
– Ай! – она случайно попала в глаз уголком тряпочки. – Да что ж такое…
С улицы послышался звонкий женский смех, ему ответил мужской голос:
– Ну чего, Надь, придешь завтра?
– Приду, – у женщины немного сбивалось дыхание, – еще, видимо, не отсмеялась. – Куда приходить-то?
– К клубу приходи, как будто сама не знаешь.
– Да знаю я, знаю…
За сельским клубом был овраг, заросший кустами сирени, и молодежь, не боясь кувырнуться вниз, в этой сирени часто обжималась. Олеся Иванна улыбнулась, рассматривая свой глаз в зеркальце: глаз немного покраснел, но тушь в него, кажется, не попала… мошкары в этом овраге много, и ветки кустов лезут в лицо и царапают руки, никакого удовольствия.
– Так чего, точно придешь? – это парень. Ильиных, что ли? Или Рогозиных? По голосу не разберешь.
– Да приду, приду… что ты за дурак такой недоверчивый?
Поцеловались. Девушка снова засмеялась, потом, видимо, зажала рот ладонью.
– Ну, приходи… я тебя ждать буду.
– Ой, жди, Ванечка. – захихикала.
Ванечка. Значит, Ильиных. Натерпится она от него – кобель, каких поискать. Недели две назад, Олеся видела, на платформе с какой-то девицей обжимался, хотя, может, и с этой самой, которую теперь в овраг зовет.
– А не обманешь?
– Да не обману, не обману, вот пристал… говорю же, дурак недоверчивый.
Снова поцеловались, потом тихо зашуршали ветки – задели, уходя, кусты, росшие вдоль забора.
Олеся Иванна обернулась, подумала, закрывать ли на ночь окно, и решила оставить так, чтобы утром было прохладнее. Все-таки хорошо, что лето, хоть из дому можно выйти и пройтись красивой, а то тоска… Она посмотрела на свое умытое лицо в зеркале, склонила набок голову. Ничего, Олеся Ивановна, молодая вы еще, есть на что полюбоваться, и на Петьке этом свет клином не сошелся. Она поправила рассыпавшиеся волосы и усмехнулась отражению.
4Наутро Сане стало хуже: он был весь горячий, дышал с присвистом, а когда Комарова позвала его, только повернул голову и ничего не ответил, даже глаз не открыл, и было видно, что веки у него покраснели, припухли и покрыты были желтым спекшимся гноем.
– Ох, Санечка, что ж это ты… – Комарова провела ладонью по лбу брата, убрала слипшиеся от пота волосы. – Совсем тебе нехорошо, да?
– Катька… – с трудом выдохнул Саня. – Катька… пить хочется… принеси попить, а…
Но когда она принесла ему холодной воды, он поперхнулся, закашлялся, и вся вода пролилась на одеяло. Комарова чертыхнулась сквозь зубы: в горле от выпитой вчера водки першило, и во рту стоял противный привкус, как будто накануне она жевала прелое сено. В комнату заглянула Ленка: с лица ее еще не сошло сонное выражение, а голова была всклокочена, и белые пряди торчали в разные стороны, делая ее похожей на отцветающий чертополох.
– Ну, чего у вас тут? – Ленка шмыгнула носом. – Чего Саня?
– Болеет, чего…
Ленка проскользнула в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь, подошла к кровати, подтянулась на носках, заглянула Сане в лицо и тихонько присвистнула.
– А мать где? – спросила Комарова.
Ленка, не отрывая взгляда от младшего брата, пожала плечами.
– А пес ее знает. Она еще вчера с вечера ушла. А куда ушла, не сказала. – Ленка хихикнула. – Может, к любовнику.
– Дура.
– Ну чё ты сразу? Шуток не понимаешь?
Ленке это, конечно, не само пришло в голову – подслушала, небось, чей-то разговор и понесла, и ляпнет теперь еще где-нибудь, что у матери есть любовник, да еще придумает, какого цвета у этого любовника глаза, кем он работает и где живет – в Семрино или в Гатчине, с Ленки станется, и начнется: мол, семеро детей, а туда же, и тетя Оксана вспомнит забывшееся про то, как мать бегала по Поселку в ватнике… Саня пошевелился и тихонько застонал, как будто что-то изнутри сдавливало ему грудь и не давало нормально дышать.
– Слушай, Ленка, беги давай к фельшерице.
В другой раз она бы обязательно заспорила с младшей сестрой и, может быть, дело дошло бы до драки, но теперь только говорила тихо, с трудом выталкивая слова в тяжелый воздух. Ленка несколько раз удивленно моргнула и тихонько возразила:
– Так ты ж сама говорила, что фельшерица ничё не сделает… чё я к ней щас побегу? И понедельник сегодня, медпункт не работает.
– Сказала тебе, беги давай к фельшерице. – Комарова почувствовала, что у нее вдруг закончился в горле воздух, и слова застревают во рту, как будто они стали липкими и приставали к зубам. – Домой к ней беги и тащи сюда… скажи, у нас Саня помирает.
– А Саня помирает, что ль? – Ленка округлила глаза.
– Фельшерице скажи, что помирает, ясно тебе, не?
Ленка фыркнула, пожала плечами, но развернулась и быстро зашлепала босыми ступнями по доскам.
– Коза. – тихо сказала Комарова ей вслед и склонилась над Саней, который совсем притих, только посапывал едва слышно, и веки его чуть вздрагивали, будто ему снился нехороший сон, от которого он все никак не мог проснуться. На белой коже, кое-где уже начавшей шелушиться от солнца – все Комаровы плохо загорали, а Саня хуже всех – ярко проступали красные пятна, разбросанные не как попало, а будто собранные в кучки по пять-шесть штук. Комарова надавила на одно из пятен, и оно, как вчера, пропало, а потом проступило снова. Она подумала, что, может быть, если бы на эти пятна надавить на все разом или прижечь их горящей спичкой, они бы совсем пропали, но ведь жалко жечь Саню спичкой, и как надавишь на все пятна разом, обязательно какие-нибудь пропустишь, даже если позовешь в помощь остальных, а если пропустишь хоть одно, то ничего не выйдет… Может, фельшерица и придумает, что делать, парацетамол свой пропишет, а, может, парацетамол как раз против этой болячки и помогает, может, его как раз специально для этого и придумали, чтобы Саню вылечить… Она помотала головой, прогоняя дурацкие мысли, толкавшиеся и налезавшие одна на другую, потом соскочила с кровати и открыла окно, впустив в комнату немного свежего воздуха.
– Сейчас, Санечка, скоро уже… Ленка фельшерицу нашу приведет, она тебе парацетамол пропишет, и ты у нас сразу поправишься.
Она оперлась ладонями о подоконник и высунулась в окно. Лес колыхался в голубоватой дымке, и было прохладно, хотя над землей уже начинал подниматься пар, – к вечеру, наверное, соберется гроза. Комарова любила грозу, особенно за то, что Олька и Светка при каждом раскате грома визжали и пытались забиться в какой-нибудь угол. Комаровский дом стоял на самом отшибе, и за ним были только лес и поле, через которое шла дорога на Мины, да и та непроезжая, и мало кто по ней ходил – кому охота тащиться несколько часов по диким местам и кормить комаров и слепней. Тут Комарова вспомнила, что накануне они на этой дороге встретили отца Сергия. Хоть Сергий и добрый, а все-таки встретить попа – плохая примета, да еще и шедшего с похорон. И бабка, когда была жива, столкнувшись с отцом Сергием, всегда его ругала: мол, что ж ты все время попадаешься, каждый раз после тебя или ведро в колодце утопишь, или каша пригорит, что ж тебе на месте-то не сидится, шел бы домой или в церковь, что ж ты все по улице, носит же тебя черт… Отец Сергий, обычно тихий, обижался и начинал строгим голосом:
– Знаете, что, Мария Федоровна…
Бабка, будто обрадовавшись, что задела священника, упирала руки в боки и отвечала:
– Ну знаю я, знаю, я уже скоро семьдесят лет как Мария Федоровна.
– В приметы верить – грех. А если хотите, чтобы ваша каша не пригорала, вы, выходя из дома, уголок платка в узел завязывайте, тогда хоть священника, хоть самого черта, который, по-вашему, меня носит, можете встречать без всяких последствий.
– Вот еще! – сердилась бабка Марья. – Вот я еще буду на платке узлы вязать! Я что, по-твоему, совсем на старости лет из ума выжила? Пусть твоя Танька на своем платке узлы вяжет!
– А вы ведро покрепче привяжите и за кашей своей лучше следите, – еще больше обижался Сергий, – грамотный человек, постыдились бы! А Таня никаких узлов вязать не станет, она в приметы не верит, в отличии от вас!
– Вот еще! – не унималась комаровская бабка. – Вот он еще меня стыдить будет! Не дорос еще меня стыдить! Понял? Не дорос еще!
Вверх по оконной раме взбирался, ловко перебирая тонкими лапками, паук-крестовик. Комарова подула на него, чтобы он полз на улицу, потом вспомнила, что увидеть паука – к новостям, и шепотом, чтобы Саня не услышал, спросила:
– Паучок-паучок, спинка серенькая, паутинка беленькая, скажи мне, поправится наш Санечка?
Паук замер, подобрал под себя лапы, потом медленно повернулся, поглядел на Комарову блестящими капельками глаз, отвернулся и пополз дальше. Комарова задумалась, сказал паук «да» или «нет», потому что знала только, как правильно спрашивать, а как понимать ответы – не знала. Ленка, наверное, знала, но Ленка убежала за фельшерицей.
– Катька… – жалобно позвал Саня. – Катька, открой окно… жарко…
– Так открыто же, Санечка. – Комарова подошла к брату и положила ладонь ему на лоб. Лоб был сухой и стал как будто еще горячее, и ей показалось, что если она не отнимет сейчас же руку, то и сама тоже станет вскорости такой же сухой и горячей, как Саня, но от страха она все прижимала ладонь к его лбу и не находила в себе сил ее убрать.
– Катька… Катька, жарко…
– Да не жарко, Санечка, не жарко, – начала уговаривать его Комарова, – утро сейчас, и к вечеру гроза соберется, дождик пойдет.
– Меня бабка Женя в печке сожгет, – вдруг сказал Саня хрипло. – Она ведьма, все так говорят, она меня съесть хочет. И тебя съест, Катька… и Ленку.
– Ленкой подавится. – фыркнула Комарова. – И наши деревенские на всех говорят, что ведьма. Они и на тетю Таню говорят, что она ведьма, потому что она рыжая.
Она наконец убрала руку и осторожно потрогала свою ладонь. Кожа была только чуть более теплой, чем обычно.
– Санечка… а вот паучок сказал, что ты точно выздоровеешь. – соврала Комарова. – Слышишь, Санечка? Это у тебя ничего страшного, так только…
– Жарко мне, Катька… – как будто не слыша, ответил Саня. – У нее печь большая в доме стоит, до самого потолка печь…
В доме было тихо – то ли все еще спали, то ли ушли куда-то, только за окном трещали птицы и слышен был гул шмелей, уже летевших в поле собирать нектар со сладко пахнущих донника, сурепки и крупного красного клевера, которого много росло вдоль реки. Паук в углу окна натянул звездочку длинных опорных нитей и теперь деловито соединял их, вытягивая из брюшка короткие клейкие паутинки. Большая синяя бронзовка влетела было в самый центр недоделанной паутины, но в последний момент развернулась и умчалась прочь. Мать говорила, когда Саня был совсем маленький, кто-то из старших, когда ее не было рядом, подошел к его кровати, взял подушку и положил Сане на лицо, чтобы он задохнулся и умер. Мать не знала, кто это сделал, но Комарова думала на близнецов: Олька придумала, а Светка сделала, Светка смелее. А близнецы говорили, что это сделала Ленка, и что больше было некому, а они с Ваней собирали в огороде красную смородину. А Саня говорил, что он ничего такого не помнит, и что маме это все, наверное, приснилось. Комарова почувствовала, что глаза у нее защипало, и она начала часто-часто моргать, а потом тереть глаза кулаками, чтобы не разреветься.
Ленка вернулась только к полудню – одна, без фельшерицы. Саня снова уснул.
– Что, не придет фельшерица? – мрачно спросила Комарова.
– Забоялась. – Пояснила Ленка. – Говорит, если у мелкого вашего температура, он, может, заразный. А парацетамолу, мол, мы можем и так в аптеке взять, без рецепта.
– Где же ты тогда так долго шлялась? – злым шепотом спросила Комарова, боясь потревожить Саню.
– Так я… – Ленка повертела головой и наконец уставилась в пол, боясь встретиться с сестрой глазами. – Я-то чё…
Комарова сдержалась, чтобы не дать ей по уху, и пошла из комнаты.
– А мне теперь чё? – спросила ей вслед Ленка.
– С братом посиди. – Через плечо бросила Комарова. – И попробуй только… – она раздраженно махнула рукой и не договорила: какой толк говорить Ленке, чтобы не смела никуда уходить, если через две минуты она все забудет. Десять лет, а дура дурой. Комарову в ее возрасте мать одну полоскать на речку отправляла и в Сусанино на электричке, и ничего, а эту вон, за фельшерицей нельзя послать: болталась полдня незнамо где, и еще смотрит наглыми глазами, как будто ничего не случилось.
Выйдя на крыльцо, Комарова достала из их с Ленкой тайника самокрутку и закурила. Когда мать видела, что они курят, им попадало, но теперь Комарова не боялась: пусть вернется мать и поймает ее, она и отпираться не станет, пусть ей влетит по первое число, может, тогда Саня и поправится. Потому что, может быть, он заболел за какие-то ее грехи или Ленкины, сам-то он еще маленький, когда бы нагрешить успел… а если она поплачет как следует и попросит Бога, Бог обязательно сделает так, чтобы Саня выздоровел. Тут ее вдруг осенило, и она щелчком отшвырнула самокрутку в заросли лиловых ноготков. Нужно в церковь пойти и заздравную свечку поставить, тогда-то Саня точно поправится. Отец Сергий говорил, если кто в семье заболел, нужно обязательно заздравную свечку ставить, это самое верное средство, и научил Комарову молиться Николаю Чудотворцу, который покровительствует детям и посылает им исцеление от болезней и утешение в горестях.
– Николай Всесвятой… – пробормотала Комарова, машинально поискав в кармане, как будто там еще могла сохраниться мятая бумажка, на которой она большими печатными буквами вслед за Сергием записала молитву. – Николай Чудотворец… заступник наш, повсюду в бедах помощник наш…
Лорд тихо гавкнул в своей конуре, но Комарова не обратила на него внимания и нахмурилась, пытаясь припомнить, что там было дальше.
– Помоги, пожалуйста, Николай Чудотворец, моему брату, Божьему рабу Саньке, попроси за него у Господа… нет, не то что-то…
Лорд гавкнул громче и выбрался из конуры, звеня цепью.
– Лорд, помолчи! – она погрозила псу кулаком. – Попроси, Николай Чудотворец, Господа о здоровье, избавь от мучений… мытарств… мучений…
Калитка заскрипела, и Лорд залаял в полную силу.
– Да тихо ты! Тихо! Сидеть! Фу, Лорд! – закричала на него Комарова. – Ну, кто там? Не бойтесь, заходите! Он не укусит, он у нас добрый!
Калитка приоткрылась, и в ней показался Костик в своих дурацких джинсах и дурацкой белой рубашке, на вид уже довольно несвежей и с большим серым пятном на рукаве. Комарова, увидев его, только рот открыла от удивления.
– Я… – нерешительно начал Костик, вдруг вздрогнул и хлопнул себя по щеке раскрытой ладонью. – Ох, у вас тут комары не то, что в городе… Привет, Катя… я тут…
– Н-ну. – Угрожающе протянула в ответ Комарова. – И чего ты тут?.. Мимо, что ли, шел?
– Я тут… – Костик смешно передернул плечами, поскреб пальцами щеку. Комаровой показалось, что красные пятна, похожие на ожоги, которые раньше были у него только на руках, появились теперь и на лбу и, кажется, выглядывали из-под ворота рубашки. Ей хотелось спросить Костика, что это за пятна такие, но она подумала, что, если начнет спрашивать – он еще вообразит, будто она сильно им интересуется или что они друзья.
– Ты тут чего? Забыл что-то?
Костик промолчал. Видно было, что ему хочется с ней поговорить, но о чем говорить и, главное – как, он не знал, и потому мялся, глупо вертел головой и почесывал укушенную комаром щеку.
– Ну, что, забыл, что ли? – Комарова подбоченилась и выставила вперед ногу, как делали обычно в поселке женщины, когда с кем-нибудь ругались. Дурак он, что ли, русского языка не понимает?
– Мне тут Лена сказала… – промямлил Костик и снова замолчал.
Так вот почему Ленка так долго! У нее брат болеет, а она там со своей жердью белобрысой лясы точила. Дождется теперь…
– Ну, чего? Чего тебе Ленка сказала? Говори давай уже, у меня дел по дому полно, некогда тут с тобой…
– Мне Лена сказала, что у вас младший брат заболел. – Вдруг очень серьезно ответил Костик, и сразу показался Комаровой как будто даже старше. – Ему нельзя тут оставаться, его в больницу надо везти.
– А ты это откуда знаешь? Ты чего тут, самый умный, что ли?
Теплый ветер прокатился по двору мягкой волной, поднял с земли несколько жухлых травинок, закрутил их в воздухе, потом бросил обратно на землю и полетел дальше.
– Так у меня… – Костик запнулся на секунду, потом сказал с вызовом: – Я старше тебя и в городе живу, потому и знаю.
– Чего? – Комарова сжала кулаки и спустилась на одну ступеньку с крыльца. – Чего ты сейчас сказал?
– Да ничего я такого не сказал… Сказал, что постарше тебя, потому и знаю…
– А еще ты чего сказал?
– Да я… я говорю, в город твоего брата надо, дура ты… дура деревенская! – неожиданно разозлился Костик, и лицо у него пошло яркими красными пятнами. – Поняла?! Он умереть здесь может в твоей деревне!
– Чёооо?! – протянула Комарова. – Ты кого это сейчас дурой назвал, жердь белобрысая?!
– Да я не хотел! – сразу испугался Костик и тут же перестал выглядеть старше. – Слушай, Катя…
– Пошел отсюда! – заорала Комарова. – И чтобы я тебя больше тут не видела!
– Катя, да послушай же ты… – не отставал Костик, хотя видно было, что он боится Комаровой и что ему хочется уйти. – Про дуру я случайно сказал, вырвалось, я свои слова обратно беру. Ну, мир?..
– Я сказала, давай дуй отсюда! Я сейчас собаку спущу, понял?! – Комаровой хотелось подскочить к Костику и ударить его кулаком в его глупое белое лицо в красных пятнах, чтобы не смел больше говорить, что Саня умрет, и чтобы не смел покупать Ленке «Лав из» и «Турбо», чтобы ехал обратно в свой город и никогда больше оттуда не возвращался. – Ну?! Хорошо меня слышал? Наш Лорд на прошлой неделе чуть мужика не загрыз, понял?! Давай, говорю, вали отсюда!
Костик попятился. Комарова была ниже его почти на голову, но ему было страшно, что сейчас она правда его ударит и сломает ему нос. В школе он был самым высоким в классе, но другие мальчишки часто его били, и мама, прикладывая к его синякам мешочек со льдом, а потом осторожно намазывая их противной, пахнущей болотом густо-коричневой мазью, повторяла: «Слава богу, хоть нос не сломали…», и прибавляла, что, если сломают нос, нужно сразу бежать в травму, потому что может срастись неправильно, и останешься на всю жизнь некрасивым. Правда, особенно красивым Костик и так себя не считал, но сломанный нос – это было бы уж слишком.
– Ладно, ладно, Кать, ну чего ты… – он поднял руки, как бы сдаваясь. – Я же как лучше хотел…
– Ну да, как лучше он хотел, конечно, – Комарова подошла к нему почти вплотную и смотрела на него снизу вверх злыми глазами. – И чтоб к сестре моей больше не подходил, понял?
– Да что Лена-то… – совсем растерялся Костик. – Мы же дружим просто.
– Ты понял меня или нет? Если увижу еще… на себя пеняй, понял?!
Она снова на него замахнулась. Костик отпрянул, но, сообразив, что Комарова все-таки не собирается его бить, а только пугает, пожал плечами, наконец вышел из двора, зачем-то на прощание махнул ей рукой и зашагал прочь. Комарова проводила его взглядом: что только Ленка в нем нашла, некрасивый, нескладный, даже идет так, будто не знает, куда девать свои слишком длинные руки и ноги, размахивает ими почем зря, пыль поднимает.
– Дурак-то, – она сплюнула. – Жердь белобрысая…
Злость на Костика как-то вдруг сразу прошла; она сорвала травинку, зажала ее в зубах, прислонилась спиной к забору и запрокинула голову. По небу ползли облака: отец Сергий говорил ей, что там наверху всегда дует ветер и холодно, а Комарова спорила: мол, как может быть там холодно, если чем выше, тем ближе к Солнцу, а если ближе к Солнцу, значит, должно быть теплее, а не холоднее. И если там холодно, то как же ангелы? Разве они не должны тогда замерзать и кутаться в пуховики, как люди зимой, а их всегда изображают на иконах в легких платьях и даже без обуви. «Ангелам, Екатерина, – отвечал отец Сергий, – тепло и не нужно, потому что они бесплотны и вечны, и не все они парят в небесах, а многие из них живут среди нас, чтобы помогать нам и поддерживать нас во всяком несчастье. И если тебе плохо, ты посмотри на небо и послушай, что скажет тебе твой ангел-хранитель, и сразу станет легче». Комарова прикрыла глаза, чтобы не так слепило солнце, и попробовала представить, что ангел говорит ей всякие слова утешения и, может быть, даже гладит ее своей ангельской ладонью по голове, как делал иногда сам отец Сергий и давал еще тянучих конфет-«коровок» для нее и для мелких, но вместо этого перед глазами встал больной Саня, который повторял, что ему душно, и чтобы она открыла окно, и сыпь на его теле становилась все ярче, пока весь Саня не стал похож на тлеющий в печке уголек.
5Костик шел быстро и с трудом удерживался от того, чтобы не побежать, хотя дорога уже давно повернула, и Комарова не могла его больше видеть, но ему казалось, что она все еще смотрит ему в спину, и от этого ему было неловко и стыдно за себя: зачем он не сказал ей того, что хотел сказать, да еще и вдобавок обозвал деревенской дурой, и как теперь перед ней извиниться? Что, например, если вернуться прямо сейчас?.. А если она снова попытается напугать его собакой или что стукнет по носу, то сразу перебить ее и сказать строгим голосом: «Ты, Катя, сначала выслушай, что тебе говорят, а потом уже руками размахивай...» Он остановился, постоял некоторое время, раздумывая, и зашагал уже решительно в сторону своего дома. Щека сильно чесалась, и вообще чесалось все тело, потому что в городе он привык мыться каждый вечер, а тут раз в неделю сходишь в общественную баню и наскоро окатишься из шайки, стесняясь облепившего все тело дерматита. Костик подозревал, что именно из-за красных пятен с беловатыми, как будто ободранными краями с ним не дружили одноклассники и не хотели гулять девочки… как будто ему это было очень нужно… А мама считала, что дерматит тут не при чем, и во всем виновата его застенчивость, и что он не умеет как следует общаться с людьми, потому что он в семье единственный ребенок, и придумала в конце концов, что нужно летом снять дачу и взяла ради этого отпуск на два месяца. Теперь они жили с мамой в маленьком летнем домике, который их хозяйка называла «мезонином», и мама каждый вечер спрашивала Костика, с кем он подружился сегодня, и говорила, чтобы он обязательно приглашал новых друзей в гости.
Он изо всей силы пнул подвернувшийся камень, но камень оказался слишком большим и не отлетел в сторону, только откатился немного, а Костик запрыгал на одной ноге, крепко стиснув зубы, чтобы не закричать на всю улицу. Проходившая мимо девушка – судя по слишком большому ей ситцевому платью в меленький цветочек – из местных, искоса на него глянула и обидно захихикала.
– И ничего смешного, – буркнул себе под нос Костик.
– Ой, какие мы, надо же! – девушка подошла ближе и дернула его за рукав. – Дачу тут снимаете?
– Отстаньте, – Костик выдернул руку, отвернулся и пошел еще быстрее, почти побежал.
– Ну и дурак! – крикнула она ему вслед и рассмеялась. – Дурак долговязый! Иди вон в поле валуны попинай! Может, ума прибавится! Дура-ак!
Она кричала что-то еще, но Костик уже не слышал. Он с раздражением подумал, что старшая Комарова вырастет и станет такой же, и будет ходить по Поселку в замызганном и слишком большом ей платье в меленький цветочек, от которого рябит в глазах и которое бы засмеяли девчонки в его школе, обязательно бы засмеяли, а она бы стояла, вжавшись в угол, и хлюпала бы носом – он бы посмотрел, как бы она тогда огрызалась и грозилась спустить собаку. Сама дура. Дура, дура. Ему захотелось обернуться и крикнуть девушке что-нибудь в ответ, и он обернулся, но ее уже не было: видимо, свернула с дороги на какую-нибудь тропинку между домами и уже думать о нем забыла.
– Сама дура, – сказал он тихо и отвернулся.
Глупо вышло. Поселок небольшой, это тебе не город: обязательно еще попадется ему эта девица – она-то уж точно его запомнила, как его не запомнить, долговязого и в дурацкой рубашке в такую-то жару… увидит его в следующий раз и снова закричит: «Дурак! Иди камни в поле попинай!» Костик почувствовал, как лицо его становится горячим от бросившейся в лицо краски. Не успел приехать – и «нате, здравствуй жопа новый год», как сказал бы, наверное, отец, а мама нахмурилась бы и одернула его, что, если ему так хочется, пусть говорит всякие глупости у себя на работе, а не дома при ребенке. Костик вздохнул и снова почесал щеку.
Пустынная пыльная дорога с канавами, тянущимися вдоль обочин, уходила вдаль и там, вдали, где воздух дрожал и колыхался от жары, резко поворачивала. По обе стороны от дороги были дома: все как на подбор старые, кособокие и такие облезлые, что с трудом верилось, что когда-то они были выкрашены в яркие цвета: голубой, желтый, оранжевый, а Поселок считался лучшим местом, куда можно было уехать на лето из города, чтобы не платить бешеных денег за морские пляжи, а наслаждаться тихой красотой средней полосы и ходить каждый день на реку с небыстрым течением и чистым песчаным дном. Костику стало вдруг так тоскливо, что хоть прямо сейчас беги на станцию и покупай обратный билет, чтобы не видеть больше этой пыльной дороги и этих скучных домов, между которыми запросто можно заблудиться и наткнуться на непривязанную собаку, не слушать навязчивого звона насекомых и особенно – писка залетевшего в комнату комара по ночам, и никогда больше не приходить на реку с ржавой водой, на которой у берегов покачиваются кувшинки и хлопья противной желто-бурой пены (младшая Комарова говорила ему, что выше по течению находится свиноферма, и пена эта оттого, что в воду сбрасывают всякую гадость). Уехать бы, уехать отсюда – и от этих домов, и от этой реки, и от новых друзей, с которыми у него никогда не получится подружиться.
– Мам, давай вернемся домой, нам по литературе на лето много задали, а тут даже библиотеки нормальной нет… – начал он придумывать, что скажет матери, и принялся тихо разговаривать сам с собой (из-за этой его привычки мама почему-то расстраивалась, и когда заставала его бубнящим что-нибудь себе под нос, всегда говорила, чтобы думал про себя). – Мам, я лучше начну уже готовиться в институт – в институт лучше заранее, ты же сама говорила. А тут заняться нечем, мальчишки тут все только курят и играют в футбол, а девчонки все глупые и тоже курят. – он запнулся, подумав, что одного того, что все местные курят – кто беломор, кто самокрутки – уже должно хватить, чтобы мама с ним согласилась: она не терпела курения, без конца пилила за это папу и даже зимой в холод выгоняла его курить на балкон. Да и в конце концов, увидела бы она сестер Комаровых – что бы она сказала?
– Здесь плохо, мам, давай уедем домой… – заключил он, невольно поднял глаза и огляделся вокруг. Дома закончились, и посреди небольшой поляны, белевшей ромашками, между которыми тут и там проглядывали похожие на цветные тряпочки головки васильков, стоял колодец с треугольной крышей, недавно покрашенной и потому масляно блестевшей на солнце. Металлическая ручка, отполированная множеством рук, слегка покачивалась, как будто кто-то только что набрал воды и ушел. Костик огляделся, ища глазами людей, но улица была пустынна. Он постоял немного на дороге, потом нерешительно подошел к колодцу, открыл дверцу и заглянул внутрь. Там было свежо и зябко, и было слышно, как с бетонных стен срываются капли и падают вниз.
– Э-эй! У-у! – крикнул Костик, и прохладная темнота ухнула в ответ, так что он отшатнулся немного, потом снова наклонился вперед и покричал еще, слушая, как его голос, уходя вниз, сам становится ниже и как будто растет, чтобы, перед тем как исчезнуть, заполнить собой всю громадную бетонную трубу, а потом вновь наступает тишина, нарушаемая только звуком срывающихся капель. Земля у колодца была скользкой оттого, что на нее постоянно проливали воду, и Костик подумал, что его новенькие кроссовки «puma», купленные мамой как раз перед каникулами, наверное, сильно испачкались. «Вот сейчас подойдет кто-нибудь и скажет: «Чем это ты тут занимаешься?!», и я поскользнусь от неожиданности и упаду вниз». Он зажмурился и представил, как упадет в колодец, будет хвататься за отвесные шершавые стены и захлебываться ледяной водой, а вокруг соберутся люди, начнут размахивать руками и спорить о том, как его вытащить, но так ничего и не придумают, и в конце концов он утонет. А к вечеру или даже раньше – новости в поселке расходятся быстро – кто-нибудь скажет Комаровой, что в колодце – он выпрямился и посмотрел вокруг: за десять шагов от него на столбе висела табличка с надписью «Лесная ул.»… что в колодце на углу Центральной дороги и Лесной улицы утонул один дачник – так, что сначала будет непонятно, что это был именно он, а потом она узнает… тут его воображение запнулось и никак не желало представлять, что скажет на это Комарова. Ему очень хотелось, чтобы она расплакалась и пожалела, что накануне накричала на него и грозилась спустить собаку, но вместо этого воображаемая Комарова только пожала плечами и сказала презрительно: «Ну и дурак, зачем было лезть в колодец?»
Костик еще раз крепко зажмурился, прогоняя неудачный образ, потом снял большое оцинкованное ведро, висевшее сбоку на длинном крючке, отступил от колодца на пару шагов (цепь, на которой висело ведро, тяжело зазвенела) и вылил себе на голову остатки воды: воды оказалось неожиданно много, и она была такой холодной, что он прикусил губу. Вода противно стекала за шиворот. Он осторожно повесил ведро на место, закрыл колодец и вернулся на дорогу. Кроссовки и вправду были сильно перепачканы в липкой черной жиже, и рубашка промокла насквозь. Костик потрогал ладонью волосы. Вот и кто просил его обливаться водой?
Слабый ветер слегка покачивал ветви большого, усыпанного белыми цветами чубушника, росшего у обочины, и в воздухе время от времени прокатывались волны сладкого, чуть даже удушливого аромата. Над чубушником вились пчелы и шмели, на некоторые цветки они пытались сесть по двое и по трое, смешно толкались мохнатыми боками и сердито жужжали.
– Сам дурак. – сказал себе вслух Костик и осторожно погладил пальцем шмеля, пытавшегося протиснуться в цветок. Шмель обиженно загудел.
После ледяной воды было свежо и приятно, и жара больше не казалась мучительной, а покосившиеся дома и пыльная дорога выглядели уже не тоскливо и неряшливо, а по-своему даже уютно, и хотелось побыть здесь еще несколько дней или даже недель, а лучше – остаться до самого конца лета, пока не начнутся дожди и новый учебный год. Костик сжал кулаки и нахмурился. Нет уж, если решил – значит, решил, нечего теперь рассусоливать, как будто он какая-нибудь девчонка. Уезжать – значит, уезжать. «Точка, абзац, красная строка», как говорил в таких случаях отец.
Подходя к «мезонину», он увидел маму, стоявшую на крыльце, и спохватился, что, уходя, обещал ей вернуться через час, а прошло уже, наверное, часа три, если не четыре. Мама стояла, придерживаясь тонкой рукой за выкрашенные в лимонно-желтый цвет перила, и щурилась от солнца. На ней было сидевшее по фигуре длинное светло-голубое платье и тонкая ниточка искусственного жемчуга на шее, и ее начинавшие седеть волосы, которые она красила хной и дома всегда завивала, теперь были распущены и слегка колыхались на ветру. Костик залюбовался ею и подумал, что его мама все-таки – самая красивая на свете, и вдруг вслед за этим неожиданно явилась мысль, что, когда старшая Комарова вырастет – она будет вот такая, красивая и в красивом платье, а вовсе не как та девица, обозвавшая его «дураком», и будет точно так же стоять на полуразвалившемся крыльце комаровского дома и щуриться от слишком сильного солнца, придерживаясь красивой тонкой рукой за перила. От удивления он остановился и помотал головой.
– Костя! – из-за слепившего глаза солнца мама заметила его, только когда он уже подошел к самой калитке. – Ну, как это назвать?! Костя!
Когда мама сердилась, она всегда говорила: «Ну, как это назвать?!» или «Ну что ты за человек такой?!», и Костик боялся этих ее фраз, потому что после них обычно следовали долгие несправедливые упреки и иногда – мамины слезы, когда он думал, что лучше бы мама накричала на него или даже побила, только бы не плакала и не молчала потом целыми днями, демонстративно делая вид, что не слышит его, когда он пытался с ней заговорить.
– Мам, прости… – он подошел к крыльцу и остановился, не решаясь подняться и пройти мимо нее в дом. – Я не специально.
– Не специально он! А я не знаю, где ты, что ты… может быть, ты в речке давно утонул! – у нее задрожал подбородок, и Костик испугался, что она прямо сейчас расплачется. – Или…
«Или упал в колодец», – подумал Костик и удержался, чтобы не сказать это вслух – тогда бы точно начались слезы.
– Или потерялся в лесу. – закончила мама. – Ты вообще думаешь, что ты делаешь, Костя? Мы же не дома…
– Мам, ну прости… – повторил Костик беспомощно. – Прости, пожалуйста… – и подумал, что она ведь сама притащила его сюда из спокойного и привычного города, где есть библиотека и можно мыться каждый день, а по вечерам сидеть на диване и смотреть мультики, а не маяться от скуки и кормить комаров.
– Прости его! – Раздраженно повторила мама. – Его простишь, а на завтра все повторяется, и каждый раз одно и тоже. Поднимайся уже в дом, обед на столе… остыло уже все.
Он покорно поднялся по лестнице, хотел поцеловать ее в щеку, но она отстранилась, сделав вид, будто заметила что-то интересное на дороге, хотя за забором не было ни души, только серая растрепанная собака с висячими ушами лениво валяла в пыли кость и в конце концов уронила ее в канаву.
Пообедали молча, потом Костик помог маме помыть посуду, послонялся некоторое время по дому, побродил по хозяйскому огороду, где в самой глубине были две грядки с клубникой: пока никто не видел, сорвал пару ягод – они оказались твердые и немного кисловатые, но все равно вкусные. Потом он отпросился погулять еще на час, и мама нехотя, с таким видом, что она даже и не ждет, что он вернется вовремя, отпустила его, но он вернулся даже быстрее, и на обратном пути зашел в магазин у станции и взял хлеба и творога, чтобы ее порадовать. О том, чтобы уехать, он заговорить так и не решился, подумав, что лучше говорить об этом, когда у мамы будет настроение получше, например, завтра, и это казалось правильным, но почему-то, когда он рано вечером укладывался спать, у него было тяжелое чувство, и он долго лежал на спине, глядя на едва различимый в темноте потолок.
А если правда в город вернуться – что там делать? Одноклассники разъехались кто куда, да и он никогда не встречался с ними на каникулах. Сидеть целыми днями дома и читать заданное на лето, а потом все равно начнется учебный год и выяснится, что кроме него и Даши – некрасивой девочки с астигматизмом и проволокой на зубах – никто ничего за лето не прочитал, и Нина Михайловна махнет рукой и скажет, что раз все равно никто не готовился, будем потихоньку читать в течение года, что с вас спрашивать, все-таки лето – оно только в детстве лето, а вот когда вырастете… и начнет говорить что-то такое скучное и невеселое про взрослую жизнь, что подумаешь – лучше бы уж поскорее там оказаться, только бы про это не слушать.
Глупо вышло с мелкой Комаровой на плотине, и с жвачками тоже глупо получилось, теперь старшая и разговаривать с ним не станет. Все у него всегда получается не как у людей. Костик вздохнул, перевернулся на бок, подсунул под щеку ладонь и закрыл глаза, но сон все равно не шел. Права мама – не умеет он находить друзей и с людьми общаться. Вспомнилось, как на последнем школьном празднике он попытался пригласить на танец Катю Громову – тоже Катю, только совсем не похожую на Комарову – та, городская Катя, была самой высокой и самой красивой девочкой в классе, и умела так причесаться и так ловко подвести глаза мамиными тенями, что даже мешковатая коричневая школьная форма ей как будто шла. Когда он подошел и встал перед ней, переминаясь с ноги на ногу, он даже и сказать ничего не успел – Катя сразу поняла, что он хочет ее пригласить, и так усмехнулась красивым ртом и так сморщила аккуратный нос, что можно было подумать, будто она увидела дождевого червяка или букашку, или еще какую-нибудь гадость, которой боятся девчонки. Костик потупился и пробормотал что-то, а когда поднял глаза, Катя уже отвернулась и как ни в чем не бывало болтала с Димой Смирновым, и оба они вели себя так, как будто Костик даже не червяк и не букашка, а так, ничего, пустое место. Он с отвращением почувствовал, что на глаза навернулись слезы, и глухо всхлипнул.
В комнату тихо вошла мама, легла на кровать, щелкнула ночником и перелистнула страницы книги в мягкой обложке. У нее было много таких книг, и, прочитав, она их не выбрасывала: говорила, что когда-нибудь перечитает ту или эту, а отец в зависимости от настроения то подшучивал над ней, то сердился, и пару раз попытался собрать все эти ее книги и выбросить, и мама на него надолго обиделась. Костик однажды открыл рассыпающийся на страницы томик: там было про какого-то маркиза и какую-то Луизу, которой маркиз признавался в любви, и почему-то маркиз и Луиза были похожи на Диму Смирнова и Катю Громову, которые, когда никто не видел, передавали друг другу под партой мелко сложенные записки, а после уроков целовались за школой. Костик так хорошо это себе представил, что закрыл книжку, не дочитав абзаца, положил ее на место и подумал, зачем это только нужно его умной и строгой маме. Мама снова перелистнула страницы и тяжело вздохнула.
– Мам… – шепотом позвал Костик. – Мам, ты не спишь?
– Что такое, Костя?
– Мам, слушай… знаешь, у меня появились тут друзья, – поскольку она молчала, он осторожно добавил:
– Это местные ребята. Четыре девочки и один мальчик.
Мама помолчала еще немного, Костик снова услышал шорох страниц и подумал, что она, наверное, его совсем не слушала, но мама наконец переспросила чуть насмешливо:
– Надо же, целых четыре девочки?
– Ну, мы познакомились просто… мы на плотину ходили вместе, – мама тихо охнула, и Костик поспешил договорить:
– Там совсем не высоко, мам, мы даже к краю не подходили, на мосту только немного постояли (он вспомнил, как поднял над водопадом мелкую Ленку, и как Комарова замахнулась на него кулаком, и ему стало стыдно, что он врет маме). В общем, по-настоящему, наверное, я с двумя девочками подружился. Они тут живут, на самом краю поселка, возле леса.
– Понятно, – равнодушно ответила мама.
Он ждал, что она скажет еще что-нибудь, но она молчала и листала свою книжку, и Костик вдруг понял, что это продолжается уже довольно долго, а он все лежит и вслушивается в тишину, в которой где-то за обоями потрескивает сверчок, и где-то то ли в шкафу, то ли на маленьком захламленном чердаке что-то шуршит, – наверное, мыши – об этом нельзя сказать маме, она боится мышей, хотя, наверное, в городе она их видела всего раз или два в жизни, а тут мыши жили в каждом доме, и мелкая Комарова рассказывала ему, что зимой мыши свили гнездо в Катькином валенке, и когда Катька достала валенки из шкафа и на всякий случай вытряхнула их – мало ли что – из валенков посыпалась солома и мышиные катышки.
– А сами мыши? – удивился Костик.
– А мышей, наверно, Динка съела. – Лена пожала плечами. – Или сами ушли куда-нибудь. – Она задумалась, потом вдруг хихикнула и добавила:
– А представляешь, если б Катька ногу в валенок сунула, а там мыши!
– Так ведь она бы их раздавила, наверное. – немного испугался Костик.
– Ага! – согласилась Ленка и снова хихикнула.
Мама, когда собиралась за город, не подумала о мышах, и еще о том, что в деревенском доме нет ванной, и воду нужно носить из колодца, а утром умываться из рукомойника, который гремит, и еще эта штука, такой штырек, который нужно приподнимать рукой, чтобы полилась вода, иногда застревает, а когда наконец удается его приподнять, вода льется слишком сильно и разбрызгивается во все стороны, и попадает на голые ноги. Костик видел, что маме все это не нравилось, и еще ей не нравилось, что ей приходится либо сидеть дома, либо гулять по жаре, отмахиваясь от назойливых комаров и слепней, но она почему-то не хотела возвращаться в город и чуть не каждый вечер повторяла, что как же это хорошо, что они все-таки собрались и сняли дачу, и теперь могут провести целое лето на природе.
– Мам… – еще раз позвал Костик и прислушался. Она не отвечала, хотя ночник над ее кроватью все еще горел, и было слышно, как она перелистывает страницы. На чердаке снова послышалось тихое шуршание.
«Взять и сказать ей, что там мыши, – подумал Костик. – И что один раз я видел мышь прямо посреди комнаты… или еще лучше, что нашел мышь в кровати… что она устроила гнездо под подушкой и что там были солома и мышиные катышки…»
Он стал наконец засыпать, и в полудреме ему казалось, что он разговаривает с мамой, рассказывает ей, как весело они с Комаровыми ходили на плотину, и какой у Комаровых дом, и что у них есть цепной пес в будке – огромный, черный и злой, что однажды этот пес чуть не загрыз мужика, который пытался залезть к Комаровым во двор – зачем вот только, что там во дворе у Комаровых делать, у них же не двор, а настоящий пустырь, и все заросло лебедой и крапивой, но зато у них есть две козы, и старшая Комарова умеет сама их доить… «А еще у них младший брат заболел, мам, его нужно к врачу в город, и чтобы папа его посмотрел…», – то ли про себя, то ли очень тихо, уже совсем засыпая, пробормотал Костик, и это важное, что было забыто из-за обиды на Катьку и всех неприятностей прошедшего дня и вдруг вспомнилось, растаяло в накрывшем его сонном мареве, и мама наконец перестала листать свою книгу, щелкнула выключателем и стало тихо-тихо, как никогда не бывает в городе.
6
В церкви было прохладно и пахло ладаном, воском и свежеструганными досками: на прошлой неделе приезжали мужики из Сусанино, присланные тамошним батюшкой, и меняли провалившийся пол в левом приделе. Отец Сергий пытался дать им в благодарность пару бутылок водки, они некоторое время помялись – видно было, что водку им взять хочется, но неудобно, и в конце концов один из них буркнул:
– Не надо, батюшка. Отец Алексий рассердится.
– Он что же у вас, такой строгий? – удивился Сергий.
– Не строгий, – отвечали сусанинские, – а так... за божье дело, говорит, плату брать не полагается.
– Так ведь отец Алексий не узнает, а Бог простит, – пожал плечами Сергий, и мужики взяли обе бутылки и еще большой пирог с капустой, испеченный Татьяной, и приговорили всё почти сразу, едва выйдя из церкви и спустившись с пригорка, а, прощаясь, говорили, чтобы батюшка звал их, если что еще нужно будет починить.
Церковь была небольшой и стараниями поселковых верующих уютной: кто-то даже постелил в притворе принесенный из дома широкий лоскутный коврик и поставил в углу миску для ленивой церковной кошки Васьки. Отец Сергий несколько раз выносил кошкину миску на паперть, но ее заносили обратно, и в конце концов он махнул рукой и на миску, и на кошку, рассыпавшую из нее творог и спавшую на коврике, отчего его угол все время был покрыт свалявшейся в войлок шерстью. Комарова медленно прошла мимо двух старых свечных ящиков в среднюю часть церкви и остановилась, привыкая к полумраку. Бабка Нюра, бывшая уже глубокой старухой, когда Комарова была совсем маленькой, а Ленка даже еще не родилась, медленно ходила от иконы к иконе и собирала в жестяную коробку свечные огарки. Спина у нее была согнута чуть не пополам, поэтому бóльшую часть времени бабка Нюра смотрела в землю. Заметив Комарову, она сделала пару шагов ей навстречу, шаркая и с трудом переставляя отекшие ноги, потом остановилась и издали перекрестила ее дрожащей рукой.
– Здрасте, баб-Нюра! Не знаете, где отец Сергий? – спросила Комарова в полный голос, но бабка Нюра на нее зашикала, прижимая к губам длинный костлявый палец, и тогда Комарова подошла ближе и повторила шепотом:
– Батюшка где сейчас, не знаете?
– Что ты говоришь, доча? – скрипуче переспросила бабка Нюра. – Громче говори, бабушка не слышит, одна перепонка у бабушки, бабушку в войну контузило…
– Тьфу ты… – сквозь зубы цыкнула Комарова.
Комаровская бабка говорила, что Нюрка насчет войны и контузии все врет, что всю войну она просидела со своим мужем в Новосибирске, там загуляла, и в конце концов до того допекла своего благоверного, что он ударил ее по голове тяжелым хрустальным графином, да так неудачно, что у нее лопнула правая барабанная перепонка, и она перестала слышать на правое ухо, а на левое просто оглохла со временем от старости. Глядя на бабку Нюру, даже по жаре закутанную в вязаную кофту и серый с прорехами платок, согнутую в три погибели, с мелко трясущейся головой, Комарова думала, как та могла загулять когда-то давным-давно в далеком Новосибирске, да еще так, чтобы получить за это графином по голове.
– В Божьем доме не плюйся. – сердито одернула Комарову бабка Нюра. – Завели манеру чуть что плеваться… в нашей молодости такого не было.
Комарова хотела было ответить, что все так говорят, будто в их молодости не было, а на самом деле, может, и похуже чего было, но прикусила язык и вместо этого сказала:
– А когда вернется батюшка, не знаете?
Баба Нюра покачала головой:
– Он со вчерашнего вечера уехал, у нас на весь Поселок один священник, не то, что раньше.
Комарова ждала, что бабка Нюра еще скажет про то, как было раньше, но та только спросила:
– А тебе что нужно от батюшки?
– Я его помолиться хотела попросить за нашего Саню. – Комарова подумала, что, если сказать бабке Нюре, что у них заболел Саня, к вечеру об этом будет знать весь Поселок, а если не сказать, она все равно что-нибудь придумает и наговорит от себя. – У нас Саня заболел, уже третий день болеет.
Бабка Нюра вместо ответа пожевала беззубым ртом, заглянула в свою жестяную банку, пошурудила пальцем среди свечных огарков.
– Плохо, что сирень уже отцвела, сирень бы ему заварить, меня мать в свое время сиренью лечила, как чай вот ее заваривала и пить давала и горло полоскать… я в твоем возрасте как лето, так сразу болеть, слабая была очень, а теперь вон, видишь, до каких лет дожила… все к земле тянет и никак не притянет… – она тяжело вздохнула. – Так ты хоть лист лопуха завари, он от жара хорошо помогает. Настой сделай из лопуха и давай твоему Сане горло полоскать. Одуванчика тоже можно заварить, тоже хорошо помогает. Знаешь хоть, как заваривать-то?
– Знаю-знаю. –Комарова кивнула.
– Вот… знает она, как же… измельчи всё, кипятком залей, дай настояться, потом через марлю процеди. Поняла, егоза?
– Спасибо, баб-Нюр… я сделаю… а когда вы отца Сергия увидите, вы ему скажете, чтобы за нашего Санечку помолился, хорошо?
– Скажу, скажу… – Нюра перестала перебирать огарки и сунула руку в карман юбки. – Все бы вам батюшку дергать почем зря, легко, думаете, ему перед Богом за вас просить… на вот… – она вытащила из кармана свечку из темного воска, такие стоили по 5 рублей. – На вот, доча, поставь Богородице и сама помолись за вашего Саню.
– Так я… – Комарова немного растерялась, но свечку все-таки взяла.
– Что, не знаешь, как молиться? Все она знает-знает, а как молиться Богородице – не знает. Пресвятая Дева Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, – монотонно забубнила себе под нос бабка Нюра. – Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия… А если молитвы не знаешь, молись, как умеешь, доча, от чистого сердца, Господь тебя услышит.
– Спасибо вам огромное, баб-Нюр, – Комарова обеими руками прижала свечку к груди и кивнула. – Сейчас вот и поставлю.
– Вот и поставь, – бабка Нюра отвернулась от нее и принялась счищать с ближайшего подсвечника натекший воск. – А то все бы батюшку без дела дергать. И по пути домой лопуха нарви и одуванчика, и дома завари. А то все батюшку, батюшка им за каждый чих перед Господом отвечай…
Она долго еще бормотала что-то себе под нос, но Комарова не слушала. Подойдя к иконе Богородицы, она осторожно поднесла фитиль своей свечи к огоньку, трепыхавшемуся над единственной, наполовину уже сгоревшей свечкой. Огонек лизнул фитиль, как бы нехотя переполз на него и засветился тусклым, едва различимым оранжевым пятнышком. Комарова задержала дыхание, боясь, как бы он не погас, но спустя немного времени он все-таки разгорелся, и она, держа свечку в обеих руках, поставила ее перед иконой.
– Господи, – прошептала Комарова, прикрыв глаза и представив, что Богородица, одновременно похожая на Сергиеву Татьяну и на Олесю Иванну из сельпо, склонила к ней покрытую красным мафорием голову и слушает. – Господи, сделай так, чтобы Санечка наш поправился.
Лицо Богородицы в колышущемся свете казалось живым, и большие глаза с поблескивающими зрачками смотрели печально.
– Сейчас ведь лето, – добавила Комарова, – и Саня наш даже купаться на речку не ходит, его мать не пускает, маленький он еще…
Комарова вдруг вспомнила, как несколько лет назад Саня учился говорить: мать пыталась накормить его кашей, Саня, которому было уже полтора года, вертел головой, отпихивался, а потом, увидев вошедшую в комнату Комарову, сказал громко и жалобно: «Катька!». Правда, получилось у него то ли «Кацька!», то ли «Каська!», но Комарова сразу поняла, что Саня не хочет каши и просит, чтобы она помогла ему объяснить это матери, и мать, то ли обрадованная, то ли просто удивленная тем, что он наконец заговорил, действительно от него отстала и уложила спать. Потом он еще долго ничего не говорил, только когда Комарову при нем били или ругали, заливался слезами и начинал орать: «Кацька! Кацька!», пока мать не замахивалась уже на него, и тогда Саня замолкал и только таращился на Комарову светло-серыми, почти ничего не выражавшими глазами.
– Господи, прости нас, если это мы чем-то виноваты… Пресвятая Дева Владычица Богородица, прости нас… Саня – он же маленький еще, ему и на речку нельзя, только во дворе играет, с чего он заболел? Сделай, пожалуйста, так, чтобы Саня наш поправился… сделай, чтобы поправился…
Ленка, обиженная, что Саня говорит только имя старшей сестры, часто тогда забегала в комнату к мелким, садилась перед ним, обычно возившимся на полу в одиночестве и складывавшим кубики, и монотонно повторяла:
– Скажи, Санечка: «Лена». Ну, Санечка… ну скажи: «Ле-на».
Саня отрывался от кубиков, поднимал голову, но ничего не говорил, только смотрел как обычно глупо и без всякого выражения.
– Дурачок ты, Саня. – вздыхала Ленка. – В кого ты такой дурачок?
– Кацька! – отвечал Саня.
Выйдя после молитвы из церкви, Комарова прошла несколько шагов и оглянулась: из-за того, что она смотрела против света, церковь на пригорке казалась ей темной, только крест на крыше как будто светился по краям. Отец Сергий рассказывал, что этот крест в свое время, когда церковь служила складом – сначала стройматериалов, потом, в войну – боеприпасов, был снят, и его спрятал у себя в подвале председатель, и что если бы его, председателя, на этом поймали, то обязательно бы расстреляли, но вышло как-то так, что про крест забыли, и так он и пролежал, завернутый в старые подскатерники и полотенца, в подвале председательского дома до самого конца советской власти, а потом его нашли и возвратили на церковную крышу. Когда Сергий только стал священником, крест выглядел неприглядно: позолота с него почти вся облезла и потемнела, но благодаря помощи сусанинского отца Алексия его снова удалось позолотить, и теперь в ясную погоду, когда лучи солнца падали прямо на крест, он сиял, как будто и вправду был из чистого золота.
По пути Комарова зашла в магазин к Олесе Иванне, но там была очередь, а Олеся Иванна спорила с какой-то настырной теткой из дачников, что маслу за неделю ничего не сделается, если оно настоящее, это в городе настоящего масла в глаза не видели, потому что там один сплошной маргарин, да и то плохой, на нем только жарить, а если крем на нем попробовать сделать – всю выпечку можно будет потом выбросить в мусорное ведро. Комарова постояла немного возле двери, думая, что надо, наверное, рассказать все Олесе Иванне, может, та даст для Сани каких-нибудь конфет или банку сгущенки, но не дождалась, пока та объяснит тетке про маргарин, и пошла за магазин собирать одуванчики и лопухи, как посоветовала ей бабка Нюра. Домой идти не хотелось, но было ясно, что нужно, потому что Ленка, скорее всего, опять куда-нибудь удрала… к белобрысому своему побежала, не иначе, так бы и дала бы ему по носу, пусть бы ехал обратно, откуда приехал, – Комарова сжала кулак, одуванчики и лопухи захрустели, и между пальцами потек их противный клейкий сок. В морду бы его белобрысую все это бросить… Комарова встряхнула головой. И чего она так на этого дурака взъелась? Может, что он Ленку с собой в город увезет? Да и пусть увозит, нужна она тут очень… И не увезет он ее никуда, потому что размазня и рохля, и родители ему не позволят, скажут, куда тебе такая деревенская Ленка, тебе нужна какая-нибудь городская Машенька-Дашенька.
– Аллё, Комарица!
Комарова вздрогнула, обернулась, увидела Светку и Павлика. Светка с Павликом стояли, держась за руки, и Комаровой стало от этого противно – это они за магазин, небось, целоваться пошли, чтобы никто их не видел, а тут она – вот они, небось, обломались. Так ими и надо, будут знать, как обжиматься по задворкам. Комарова зло улыбнулась Светке.
– Ну, чего тебе, коза?
– Сама коза, – Светка фыркнула, отпустила павликину руку и изобразила пальцами козьи рога. – Траву себе на ужин собираешь?
– А не твое козье дело.
– Сама ты козья… – Светка начала уже обижаться. – Жопа козья.
– Девчонки, хорош уже, щас подеретесь. – Павлик дернул Светку за рукав, но та отмахнулась.
– А вот и подеремся. – Комарова шагнула к ним. – Получить захотели, да? Ща и получите.
Светка вместо того, чтобы ответить, вдруг как-то неловко переступила с ноги на ногу.
– Короч, Комарица, мы тебя тут вообще-то искали, нам твои мелкие сказали, что ты в церковь пошла. Мы тебя издали видели от церкви.
– Конечно, ври больше.
– Да ничего я не вру! Мы правда искали!
– Ну? И дальше чё?
– Ну, в общем… – Светка сунулась в свою сумку, которую всегда по городской привычке таскала на плече, пошурудила там немного. – В общем, мы тебе конфет мятных принесли и меда, мед с пасеки, тетке моей от родственников присылали. – Она вытащила из сумки кулек и протянула Комаровой. – Ну, что, будешь брать? Это для брата твоего, короче, чтобы быстрее выздоровел.
– Возьму, чё… – сказала Комарова и потупилась. Злость на Светку и Павлика прошла, и в носу противно защекотало. Она подошла ближе, и Светка сунула ей в руки свернутый полиэтиленовый пакет.
– Спасибо. – буркнула Комарова.
– Не за что, – по городской привычке ответила Светка. – А у него что, у Сани вашего?
– Ничё. Простудился.
– А-а, – протянула Светка. – А как это он летом простудился? Тепло же.
– Без тебя знаю, что тепло.
– А я как-то зимой простудилась, так что в больницу положили. Оказалось, двустороннее воспаление легких. – сказала Светка. – Я школы тогда полгода пропустила.
Павлик уважительно присвистнул – видимо, позавидовал Светкиному двустороннему воспалению.
– То-то ты такая глупая.
– Сама такая! С тобой по-человечески, а ты сразу…
– Да ладно, не обижайся. На обиженных воду возят. Приходи к нам, когда Саня поправится, к большой канаве пойдем тритонов ловить.
Комарова было спохватилась, но слова уже сказались: вообще-то большая канава с тритонами была их с Ленкой секретным местом, и они никого туда просто так не водили, тем более городских, а тут вышло, что Светка за какой-то кулек конфет и банку меда вдруг получила себе такое право.
– Тритоны классные. – встрял Павлик. – Ты, Светка, тритонов когда-нибудь ловила?
Светка помолчала – видно было, что ей и обидно, что Комарова ее обозвала глупой, и любопытно посмотреть на тритонов, которых ее Павлик, сам деревенский, ни разу не догадался ей показать.
– Ладно, придем как-нибудь. Посмотрю на твоих тритонов.
– Давай, приходи, – Комарова, уже направляясь к дороге, помахала Светке и Павлику пучком собранной травы. – Покеда.
Светка ничего не ответила, но Комарова чувствовала, что та смотрит ей в спину и, наверное, злится, что Комарова засмеяла ее с ее воспалением легких. Двустороннее – надо же! Это пусть ее Павлик каждому ее чиху радуется – полгода школы она пропустила, велика заслуга. Комарова, если бы хотела, и без всякого воспаления бы полгода в школу не ходила, а если б очень захотела – то и год, и никто бы ей слова не сказал (хотя насчет «слова не сказал» – это она преувеличивала, мать бы, если бы узнала, что она прогуливает, скорее всего, выдрала бы ее как сидорову козу). Она шла быстрым шагом мимо тянувшегося вдоль дороги оврага, и в овраге что-то трещало ветками и верещали птицы: если бы она так не спешила, она бы обязательно свернула с дороги и заглянула в густые темно-зеленые кусты, за которыми земля несколько метров полого спускалась, а потом резко обрывалась вниз. Как-то раз Ленка оступилась и полетела туда, и они потом долго объясняли матери, почему вернулись в порванных платьях и все исцарапанные, а Ленка еще и потеряла сандалию, и мать особенно сердилась за сандалию, потому что сандалии были совсем новыми, мать купила их на рынке прошлым летом, и надевала их Ленка с того времени всего раз или два. Комарова на ходу провела по лицу ладонью, пытаясь убрать с потного лба липшие к нему волосы. Ничего, вот Саня поправится – они снова пойдут в овраг, и на речку купаться, и на второй плес за ракушками. И Светку, может быть, тоже с собой позовут, вот она офигеет, хотя не много ли этой Светке за ее кулек конфет... Только бы Саня поправился. Она остановилась, прижала Светкин пакет и охапку лопухов одной рукой к груди, и свободной обтерла лицо, чувствуя, что размазывает по щекам вместе с потом серую дорожную пыль. Конечно, поправится Саня, не может так быть, чтобы не поправился. Поправится и вместе с ними со всеми пойдет в овраг и за тритонами, они с Ленкой его тоже никогда еще с собой не брали. И возьмут теперь, обязательно возьмут.
– Обязательно возьмем, Санечка, – вслух пообещала Комарова, чтобы обязательно так потом и получилось.
Дома в полутемной прихожей сидели на корточках возле стены Олька и Светка и играли в паутинку, растягивая на растопыренных пальцах полосатые резинки от трусов. Побеждала Светка – у нее паутинка выходила аккуратнее.
– В дом нельзя! – Олька, увидев старшую сестру, подскочила первой, заодно бросив свою паутинку. – Тут сиди или на кухне.
– Это чего это? – удивилась Комарова. Голова у нее немного кружилась и клонило в сон – наверное, перегрелась на солнце.
– К Саньке врач приехал из Гатчины. – ответила Олька, гордая, что она узнала про врача первой, а Комарова стоит как дура и хлопает глазами. – Сказал, никому в комнату не заходить, и что он потом нас всех тоже посмотрит.
– Это мать врача привела. – добавила Светка. – Ее дядя Петр отвез на своей машине, на которой продукты в магазин возит…
– …и потом вместе с врачом обратно привез, – перебила Олька, испугавшись, что Светка сейчас все расскажет, и ей ничего не останется.
– Аа… – только и выговорила Комарова, чувствуя, что ей все тяжелее держать в руке охапку лопухов и одуванчиков и Светкин пакет, потому что ладони стали почему-то горячими и влажными. – А Ленка где?
– С мелкими на кухне сидит. Это чего это у тебя?
– Да так… – Комарова отпустила лопухи, и они с тихим шорохом упали на пол. – Это для коз. А это Светка передала, от тетки ее, от родственников ее тетки…
– Катька, ты чего? – Олька подошла ближе, с любопытством заглянула ей в лицо и забрала пакет. – Ты плачешь, что ли?
– Ничего я не плачу… – Комарова отпихнула ее рукой и, прислонившись к стене, медленно села на корточки и закрыла глаза.
– Может, в паутинку будешь? У нас еще одна резинка есть. – продолжала где-то далеко говорить Олька. – Или я тебе свою отдам. Хочешь, свою отдам? Ленка там с мелкими варенье открыли, мать сказала, можно сейчас открыть одну банку… пол-литровую… Слышишь, Катька? Варенье будешь? Черно… черносмородиновое.
– Варенья можно… – сказала Комарова, и ей показалось, что собственный голос звучит очень тихо и тоже как будто издалека. – А мед для Сани, это от простуды хорошо помогает.
– Ага, его врач посмотрит, и сразу дадим ему меду. – говорила Светка. – Врач знаешь, ничего такой дяденька, прямо не скажешь, что деревенский, как будто из города или из Москвы прямо приехал… слышь, Катька? В костюме такой, в очках, с чемоданчиком. У него в чемоданчике инструменты, как думаешь? Он, наверное, Саньке горло будет смотреть, мне наша фельшерица так делала: говорит, высунь язык и скажи «А-а», да не так, а вот так: «А-а-а»… и палочку для мороженого в рот засовывала…
Светка высунула язык изо всей силы и по-козьи заблеяла, и Олька над ней захихикала.
– Чё ты ржешь? Ржет она… Это врачу надо, чтобы узнать, чем болен Санька и как его лечить, а она ржет. Ну, Катька, скажи ей… Скажи ей давай, чё она ржет…
Комарова молчала, не открывая глаз, и ей казалось странным, что и ее сестру зовут Светкой, и эту, из города, тоже зовут Светкой, может, и нет никакой Светки из города, а это ее сестра гуляет с Павликом, надо взять ее с собой, когда на канаву пойдем тритонов ловить, и на второй плес за ракушками тоже – пусть порадуется. Олька со Светкой продолжали ссориться где-то далеко, на станции засвистел поезд, и Комаровой представилось, что Светка с Олькой и с Павликом – все едут на этом поезде, их голоса слышны уже где-то за лесом, и даже голосов уже не слышно, одно только неразличимое «бу-бу-бу», а потом Светка – та, что городская, показывает Комаровой язык, блеет по-козьи и начинает жевать лопухи, которые Комарова собрала для Санечки. Она с трудом подняла руку, которая стала очень тяжелой и горячей, и дотронулась до лба. Лоб тоже был горячий, и почему-то уже совсем не было слышно, о чем говорили сестры, а потом до нее дошел издалека материн голос – сначала сердитый, а потом испуганный. Она попыталась ответить на этот голос, хотела сказать, что ей нужно пойти с Ленкой в овраг – она вспомнила, где Ленка потеряла сандалию, и они могли бы теперь ее поискать, но почему-то у нее никак не получалось разлепить губы, и во рту и во всем теле было горячо, как будто само лето вдруг обволокло ее всю жаром и потащило куда-то – за реку, за поле, где петляет пыльная дорога на Мины, и отец Сергий возвращается с крестин в своей длинной черной рясе, придерживая одной рукой скуфью, чтобы не слетела от ветра.