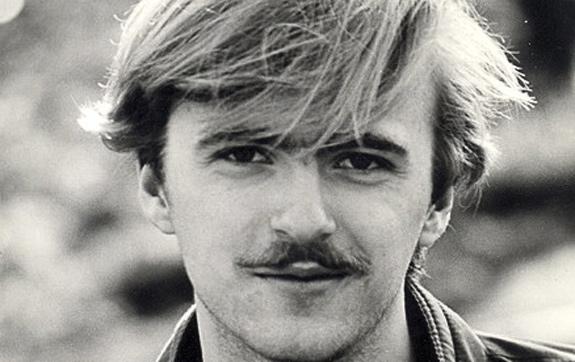Текст: Дмитрий Шеваров
Авторы фото: А. Шаталов, Г. Елин
В 1918 году Марина Цветаева ехала в тамбовском поезде, разговорилась с попутчиком-солдатом, прочитала ему два стихотворения, не признаваясь в своем авторстве. Солдата стихи пробрали: «Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило... Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь!..»

Если посмотреть на биографию Дениса Новикова с этой солдатской точки зрения, то кажется, что он должен был писать лишь на одну тему: «Жизнь удалась!».
Родился в Москве, учился в Литературном институте, несколько лет жил в Англии, последние годы – в Израиле.
Денису было 28 лет, когда послесловие к его сборнику «Окно в январе» написал Иосиф Бродский.
«Критики и читатели ждали «красивого, двадцатидвухлетнего», – вспоминает поэт Олег Хлебников. – А он был. Вот этот самый — светловолосый, с черными бровями, длинноногий, остроумный — Денис Новиков. Но его проморгали. Не до того было?..»
Не беда, если бы Новикова проморгала только литературная критика. Сколько ярких поэтов в советское время обходилось без внимания критики или терпело от этой критики поношения, но их имена, их голоса слышали все благодаря самиздату и магнитофонным пленкам, и той акустике, которая была в нашей стране. Благодаря читателю, который отзывался на каждое честное и талантливое слово. В 1996 году Денис говорил в интервью: «Вот в чем вся проблема: никто ничего читать не хочет. Ленятся люди читать. Стихи читать – это же талант... Я не думаю, что стихи вернут свою былую славу, былую престижность... Русская поэзия – как Советский Союз. Вчера это казалось незыблемым. Сегодня флаг спустили. Мы же все знали всегда, что на западе давно стихи не читают. А у нас читают, потому что мы – другая страна. И вот в этом смысле мы вдруг стали таким же западом...»
Но при этом время,
эпоху Денис Новиков запечатлел так, как если бы его читали миллионы.

Выговаривал не себя, а улицу безъязыкую, которая корчилась у него под окном. Так голос автора стал голосом вдруг онемевшего хора.
...Тот и царь, чьи коровы тучней.
Что сказать? Стало больше престижу.
Как бы этак назвать поточней,
но не грубо? – А так: ненавижу
загулявшее это хамье,
эту псарню под вывеской «Ройял».
Так устроено сердце мое,
и не я мое сердце устроил...
Гибель читателя, тихо «закатанного в асфальт» загулявшим хамьем, не вызвала мгновенной гибели поэзии, но оказалась роковой для многих поэтов, чья молодость пришлась на 1990-е.
Напомню слова Бахтина (которого в 1970-е не цитировал редкий дворник): «Лирика — это слышание себя в эмоциональном голосе другого... Петь голос может только в теплой атмосфере, в атмосфере возможной хоровой поддержки, принципиального звукового неодиночества...»
Денис Геннадьевич Новиков умер в израильском городе Беэр-Шева 31 декабря 2004 года. Ему было 37. В последние годы он порвал общение с литературным кругом и стихов не писал.
Из стихов Дениса Новикова
Россия
...плат узорный до бровей.
Блок
Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зелёным хрустом,
ни плата тебе, ни косынки –
бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка – пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».
Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали свое на рейхстаге.
Свое – это грех, нищета, кабала.
Но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листая.
Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна.
А значит, без громкого тоста,
без иста, без веста, без оста.
Присядем на камень, пугая ворон.
Ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесём – и завяжем.
Подумаем лучше о наших делах:
налево – Маммона, направо – Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево – умрёшь от огня.
Поедешь направо – утопишь коня.
Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.
1992
Учись естественности фразы
у леса русского, братан,
пока тиран куёт указы.
Храни тебя твой Мандельштам.
Валы ревучи, грозны тучи,
и люди тоже таковы.
Но нет во всей вселенной круче,
чем царскосельские, братвы.
* * *
Я прошел, как проходит в метро
человек без лица, но с поклажей,
по стране Левитана пейзажей
и советского информбюро.
Я прошел, как в музее каком,
ничего не подвинул, не тронул,
я отдал свое семя как донор,
и с потомством своим не знаком.
Я прошел все слова словаря,
все предлоги и местоименья,
что достались мне вместо именья,
воя черни и ласки царя.
Как слепого ведет поводырь,
провела меня рифма-богиня:
– Что ты, милый, какая пустыня?
Ты бы видел – обычный пустырь.
Ухватившись за юбку ее,
доверяя единому слуху,
я провел за собой потаскуху
рифму, ложь во спасенье мое...
1996
* * *
Это из детства прилив дурноты,
дяденек пьяных галдёж,
тётенек глупых расспросы — кем ты
станешь, когда подрастёшь?
Дымом обратным из неба Москвы,
снегом на Крымском мосту,
влажным клубком табака и травы
стану, когда подрасту.
За ухом зверя из моря треплю,
зверь мой, кровиночка, век;
мнимою близостью хвастать люблю,
маленький я человек.
Дымом до ветхозаветных ноздрей,
новозаветных ушей
словом дойти, заостриться острей
смерти при жизни умей.
6 января 1997
* * *
Всё сложнее, а эхо всё проще,
проще, будто бы сойка поёт,
отвечает, выводит из рощи,
это эхо, а эхо не врёт.
Что нам жизни и смерти чужие?
Не пора ли глаза утереть.
Что — Россия? Мы сами большие.
Нам самим предстоит умереть.
23 марта 1999
На железной дороге
Вот боль моя. Вот станция простая.
Всё у неё написано на лбу.
Что скажет имя, мимо пролетая?
Что имя не влияет на судьбу.
Другое имя при царе носила,
сменила паспорт при большевиках,
их тут когда-то
много колесило.
Теперь они никто и звать никак.
А станция стоит. И тёмной ночью
под фонарем горит её чело.
И видит путешественник воочью,
что даже имя — это ничего.