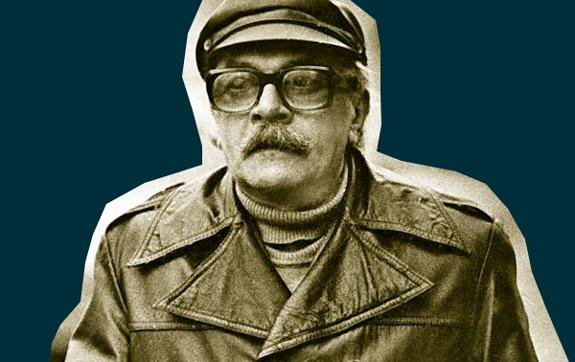Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»
Фото: polit.ru
Всего лишь 100 лет назад родился современник Пушкина. Вряд ли такое возможно. Но звали его Давидом Кауфманом, а под литературным именем Самойлов он в послевоенные годы ХХ века возродил пушкинскую интонацию. И это была не просто потешная стилизация, а нечто более таинственное и притягательное. Поэт тончайшей иронии и мощных лирических волн – он долго оставался в тени знаменитых современников. До войны он, как и многие ифлийцы, в поэзии считался учеником Ильи Сельвинского. Это отличная школа. С Сельвинским связаны его первые публикации. А потом в литературную жизнь вмешалась история – и он стал солдатом. Воевал, был ранен, потом, с помощью влиятельнейшего в те годы Ильи Эренбурга, вернулся на фронт.
После войны он, кажется, не спешил громко заявить о себе в поэзии. Быть может, ему не подходил общий тон эпохи – слишком триумфальный и зависимый от сложившихся канонов. Он много переводил, а по существу поселился в «золотом веке русской поэзии», приноравливая его тонкости к ХХ веку.
Его первая тонкая – 89 страниц – книга вышла в 1958 году, когда поэт был уже старше Пушкина. И первое, что там бросается в глаза – эпиграф из того самого автора: «Я возмужал среди печальных бурь…». Потом сборники – один лучше другого – пошли один за другим, хотя и с долгими паузами. Поздняя слава (хотя это слово, наверное, не самое точное) – редкость в истории поэзии:
- Стихи за пятьдесят!
- На мне они висят
- Невыносимой ношей.
Он не захотел стать модернистом. Нет, Самойлов почти не писал стилизаций, в его стихах разминается вполне живая русская речь ХХ века. И от событий ХХ века он, фронтовик, в стихах не прятался. Но все-таки пушкинского там гораздо больше, чем наслоений позднейших времен. Прежде всего – непринужденная онегинская интонация, внимание к вещам, к истории. Энциклопедизм.
Он писал во времена всеобщей любви-ненависти к Маяковскому и Есенину, потом – к Симонову, потом – к «шестидесятникам», потом притязательный читатель полюбил Бродского, при этом поклонялся Пастернаку, Ахматовой, Блоку... Можно протянуть этот список еще на десяток фамилий. О своих читателях он писал со скромной гордостью. И, по обыкновению, остроумно:
- Хозяйка, наливай!
- И не жалей, читатель,
- Что, словно невзначай,
- Я свой талант растратил!
- Читатель мой — сурок.
- Он писем мне не пишет!..
- Но, впрочем, пару строк,
- В которых правду слышит,
- Он знает назубок…
Это из одной словоохотливой поэмы.
Самойлов держался в стороне от высоких пьедесталов, а оказался одним из самых необходимых поэтов ХХ века – наряду с теми, о которых он писал: «смежили очи гении». А сейчас, во времена, извините, коронавируса и самоизоляции, неожиданно главными стали два русских стихотворения: «Не выходи из комнаты…» Бродского и «Везде холера, всюду карантины» Самойлова. И это можно считать его посмертной шуткой. Горьковатой, как всегда.
Выбрать что-то самое любимое у Самойлова непросто: писал он долго, отточенно, почти всегда – остроумно, даже в самых грустных лирических монологах. Хочется вспомнить побольше. Но умение ограничить себя – одна из главных доблестей Самойлова. Поэтому – 12 вещиц, не более. Не в хронологическом порядке и, конечно, без соревновательного принципа. Просто 12 вещиц. Стихотворений и отрывков из поэм.
Названья зим
- У зим бывают имена.
- Одна из них звалась Наталья.
- И было в ней мерцанье, тайна,
- И холод, и голубизна.
- Еленою звалась зима,
- И Марфою, и Катериной.
- И я порою зимней, длинной
- Влюблялся и сходил с ума.
- И были дни, и падал снег,
- Как теплый пух зимы туманной.
- А эту зиму звали Анной,
- Она была прекрасней всех.
Одно из самых загадочных, прозрачных, летящих стихотворений. Годится и для песни, и для девичьего дневника, и для серьезной антологии. Лучшего и не бывает.
Перебирая наши даты
- Перебирая наши даты,
- Я обращаюсь к тем ребятам,
- Что в сорок первом шли в солдаты
- И в гуманисты в сорок пятом.
- А гуманизм не просто термин,
- К тому же, говорят, абстрактный.
- Я обращаюсь вновь к потерям,
- Они трудны и невозвратны.
- Я вспоминаю Павла, Мишу,
- Илью, Бориса, Николая.
- Я сам теперь от них завишу,
- Того порою не желая.
- Они шумели буйным лесом,
- В них были вера и доверье.
- А их повыбило железом,
- И леса нет - одни деревья.
- И вроде день у нас погожий,
- И вроде ветер тянет к лету...
- Аукаемся мы с Сережей,
- Но леса нет, и эха нету.
- А я все слышу, слышу, слышу,
- Их голоса припоминая...
- Я говорю про Павла, Мишу,
- Илью, Бориса, Николая.
Это написал настоящий ифлиец, вспоминающий предвоенных молодых поэтов, с которыми приятельствовал. Тут – не только ИФЛИ, но и семинары Литинститута. Пятеро упомянутых погибли на фронте. Это Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Илья Лапшин, Борис Смоленский, Николай Майоров. «У нас была огромная потребность в единении. Мы мыслили себя поколением. Едва познакомившись, сходились сразу. Чувствовали, что времени мало» - это из записей Самойлова. «Аукаемся мы с Сережей» - это про второго выжившего фронтовика, Сергея Наровчатова. Наименее известный из них Илья Лапшин, успевший написать:
- Степями Украины
- Полки на Запад шли…
- Но погибший на берегу Днепра.
Пестель, поэт и Анна
- Там Анна пела с самого утра
- И что-то шила или вышивала.
- И песня, долетая со двора,
- Ему невольно сердце волновала.
- А Пестель думал: "Ах, как он рассеян!
- Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
- Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
- И молод. И не станет фарисеем".
- Он думал: "И, конечно, расцветет
- Его талант, при должном направленье,
- Когда себе Россия обретет
- Свободу и достойное правленье".
- - Позвольте мне чубук, я закурю.
- - Пожалуйте огня.
- - Благодарю.
- А Пушкин думал: "Он весьма умен
- И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
- Но времена для брутов слишком круты.
- И не из брутов ли Наполеон?"
- Шел разговор о равенстве сословий.
- - Как всех равнять? Народы так бедны, -
- Заметил Пушкин, - что и в наши дни
- Для равенства достойных нет сословий.
- И потому дворянства назначенье -
- Хранить народа честь и просвещенье.
- - О, да, - ответил Пестель, - если трон
- Находится в стране в руках деспота,
- Тогда дворянства первая забота
- Сменить основы власти и закон.
- - Увы, - ответил Пушкин, - тех основ
- Не пожалеет разве Пугачев...
- - Мужицкий бунт бессмыслен... -
- За окном
- Не умолкая распевала Анна.
- И пахнул двор соседа-молдавана
- Бараньей шкурой, хлевом и вином.
- День наполнялся нежной синевой,
- Как ведра из бездонного колодца.
- И голос был высок: вот-вот сорвется.
- А Пушкин думал: "Анна! Боже мой!"
- - Но, не борясь, мы потакаем злу, -
- Заметил Пестель, - бережем тиранство.
- - Ах, русское тиранство-дилетантство,
- Я бы учил тиранов ремеслу, -
- Ответил Пушкин.
- "Что за резвый ум, -
- Подумал Пестель, - столько наблюдений
- И мало основательных идей".
- - Но тупость рабства сокрушает гений!
- - На гения отыщется злодей, -
- Ответил Пушкин.
- Впрочем, разговор
- Был славный. Говорили о Ликурге,
- И о Солоне, и о Петербурге,
- И что Россия рвется на простор.
- Об Азии, Кавказе и о Данте,
- И о движенье князя Ипсиланти.
- Заговорили о любви.
- - Она, -
- Заметил Пушкин, - с вашей точки зренья
- Полезна лишь для граждан умноженья
- И, значит, тоже в рамки введена. -
- Тут Пестель улыбнулся.
- - Я душой
- Матерьялист, но протестует разум. -
- С улыбкой он казался светлоглазым.
- И Пушкин вдруг подумал: "В этом соль!"
- Они простились. Пестель уходил
- По улице разъезженной и грязной,
- И Александр, разнеженный и праздный,
- Рассеянно в окно за ним следил.
- Шел русский Брут. Глядел вослед ему
- Российский гений с грустью без причины.
- Деревья, как зеленые кувшины,
- Хранили утра хлад и синеву.
- Он эту фразу записал в дневник -
- О разуме и сердце. Лоб наморщив,
- Сказал себе: "Он тоже заговорщик.
- И некуда податься, кроме них".
- В соседний двор вползла каруца цугом,
- Залаял пес. На воздухе упругом
- Качались ветки, полные листвой.
- Стоял апрель. И жизнь была желанна.
- Он вновь услышал - распевает Анна.
- И задохнулся:
- "Анна! Боже мой!"
Об этом стихотворении можно рассуждать долго, но лучше – перечитать и помолчать. Это конек зрелого Самойлова – сюжет с обожаемым и непрямолинейно понимаемым Пушкиным. И эпикурейская философия творчества – пушкинская и самойловская. Какая легкость диалога – хоть десять восклицательных знаков ставь. Лукавство. И преклонение перед Пушкиным.
Сороковые
- Сороковые, роковые,
- Военные и фронтовые,
- Где извещенья похоронные
- И перестуки эшелонные.
- Гудят накатанные рельсы.
- Просторно. Холодно. Высоко.
- И погорельцы, погорельцы
- Кочуют с запада к востоку...
- А это я на полустанке
- В своей замурзанной ушанке,
- Где звездочка не уставная,
- А вырезанная из банки.
- Да, это я на белом свете,
- Худой, веселый и задорный.
- И у меня табак в кисете,
- И у меня мундштук наборный.
- И я с девчонкой балагурю,
- И больше нужного хромаю,
- И пайку надвое ломаю,
- И все на свете понимаю.
- Как это было! Как совпало -
- Война, беда, мечта и юность!
- И это все в меня запало
- И лишь потом во мне очнулось!..
- Сороковые, роковые,
- Свинцовые, пороховые...
- Война гуляет по России,
- А мы такие молодые!
- 1961
Это уже совсем хрестоматия. В высоком смысле слова. Стихотворение, с которого к Самойлову – известному переводчику и вертопраху – стали относиться серьезнее. Его трудно не выучить наизусть. И остроумие снова Самойлову не изменило. В сочетании с сентиментальностью, с точностью исторической хроники, которая возникла в воспоминаниях через 15 лет – впечатление сильное.
Маркитант
- Фердинанд, сын Фердинанда,
- Из утрехтских Фердинандов,
- Был при войске Бонапарта
- Маркитант из маркитантов.
- Впереди гремят тамбуры,
- Трубачи глядят сурово.
- Позади плетутся фуры
- Маркитанта полкового.
- Предок полулегендарный,
- Блудный отпрыск ювелира
- Понял, что нельзя бездарней
- Жить, не познавая мира.
- Не караты, а кареты.
- Уйма герцогов и свиты.
- Офицеры разодеты.
- Рядовые крепко сшиты.
- Бонапарт короны дарит
- И печёт свои победы.
- Фердинанд печёт и жарит
- Офицерские обеды.
- Бонапарт диктует венским,
- И берлинским, и саксонским.
- Фердинанд торгует рейнским,
- И туринским, и бургонским.
- Бонапарт идёт за Неман,
- Что весьма неблагородно.
- Фердинанд девицу Нейман
- Умыкает из-под Гродно.
- Русский дух, зима ли, бог ли
- Бонапарта покарали.
- На обломанной оглобле
- Фердинанд сидит в печали.
- Вьюга пляшет круговую.
- Снег валит в пустую фуру.
- Ах, порой в себе я чую
- Фердинандову натуру!..
- Я не склонен к аксельбантам,
- Не мечтаю о геройстве.
- Я б хотел быть маркитантом
- При огромном свежем войске.
За эту «программную» проповедь вовсе не героического эпикурейства Самойлову досталось от героев-максималистов. На такое шутливое (и обаятельно циничное) откровение имел право ефрейтор, врывавшийся в немецкие окопы… Думаю, Самойлов считал, что в ХХ веке Пушкин именно так рассказывал бы истории – с кинематографическим монтажом. Написано это с наслаждением и иронией. Без заносчивости и злобы. А программа получилась – как у лоботряса. Сложена виртуозно. И даже слегка автобиографично – с самоиронией, которая сильнее интереса к родословной.
Фейерверк
- Музыкантам, музыкантам
- Было весело играть.
- И под небом предзакатным
- Трубам весело сиять.
- Но окрестности темнели,
- Угасал латунный сверк.
- И когда сомкнулись ели,
- Вдруг ударил фейерверк.
- С треском, выстрелом и шипом
- Он распался на сто звезд.
- Парни в танце с диким шиком
- Мяли девушек, как воск.
- И опять взлетел над парком
- Фейерверк и прянул вниз.
- И тогда с тревожным парком
- Галки стаями взвились.
- И рассыпалися черным
- Фейерверком, прянув вверх.
- Но хвостом разгоряченным
- Вновь распался фейерверк.
- Светла начали крутиться,
- Поднимаясь к небесам.
- И тогда другие птицы
- Заметались по кустам.
- Ослепленные пичуги
- Устремлялись от огней,
- Трепыхаясь, словно чубы
- Перепуганных коней.
- И тогда взлетел Огромный,
- Словно лопнуло стекло.
- И сияющей короной
- Всплыло нежное Светло.
- Как шатер Оно снижалось,
- Озаряя небеса.
- С тенью тень перемежалась,
- Словно спицы колеса.
- И последняя шутиха
- Где-то канула на дно.
- И тогда настало Тихо.
- И надвинулось Темно.
- Мы стояли, рот разинув,
- И глядели долго вверх.
- И, как битву исполинов,
- Вспоминали фейерверк.
Это про какой фейерверк – современный или какой-нибудь екатерининский? Не так уж важно. Одно из ликующих, мажорных стихотворений великого эпикурейца. Музыка – мажорный марш – запоминается навсегда. И ощущение самойловской высокой безделицы. Стихотворения, написанного как будто «между прочим». Как это бывало в Золотом веке – по крайней мере, по нашим представлениям о нем.
Болдинская осень
- Везде холера, всюду карантины,
- И отпущенья вскорости не жди.
- А перед ним пространные картины
- И в скудных окнах долгие дожди.
- Но почему-то сны его воздушны,
- И словно в детстве бормотанье, вздор
- И почему-то рифмы простодушны,
- И мысль ему любая не в укор.
- Какая мудрость в каждом сочлененье
- Согласной с гласной! Есть ли в том корысть?
- И кто придумал это сочиненье!
- Какая это радость перья грызть!
- Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье
- И поражаться своему уму!
- Кому б прочесть — Анисье иль Настасье?
- Ей-богу, Пушкин, все равно кому!
- И за полночь пиши, и спи за полдень,
- И будь счастлив, и бормочи во сне!
- Благодаренье богу — ты свободен,
- В России, в Болдине, в карантине...
Будучи старше Пушкина, он любил его как младшего брата, а может быть, как сына, который, к тому же, оказался гением. За этим стихотворением – десятилетия чтений и мечтаний. Этот давний карантин XIX века он чувствовал кожей – и написал одно из лучших стихотворений о свободе и творчестве.
- = = =
- Пусть нас увидят без возни,
- Без козней, розни и надсады,
- Тогда и скажется: «Они
- Из поздней пушкинской плеяды».
- Я нас возвысить не хочу.
- Мы — послушники ясновидца…
- Пока в России Пушкин длится,
- Метелям не задуть свечу.
Неожиданный для Самойлова прорыв в чистую патетику связан, конечно, с пушкинским образом. Он нашёл возвышенные и осторожные слова, чтобы не запятнать столь высокую для него – всегдашнего пересмешника – тему. Стихотворение афористично и высокопарно. Для Самойлова это и исповедь, и программа.
Давай поедем в город
- Давай поедем в город,
- Где мы с тобой бывали.
- Года, как чемоданы,
- Оставим на вокзале.
- Года пускай хранятся,
- А нам храниться поздно.
- Нам будет чуть печально,
- Но бодро и морозно.
- Уже дозрела осень
- До синего налива.
- Дым, облако и птица
- Летят неторопливо.
- Ждут снега, листопады
- Недавно отшуршали.
- Огромно и просторно
- В осеннем полушарье.
- И все, что было зыбко,
- Растрепанно и розно,
- Мороз скрепил слюною,
- Как ласточкины гнезда.
- И вот ноябрь на свете,
- Огромный, просветленный.
- И кажется, что город
- Стоит ненаселенный, -
- Так много сверху неба,
- Садов и гнезд вороньих,
- Что и не замечаешь
- Людей, как посторонних…
- О, как я поздно понял,
- Зачем я существую,
- Зачем гоняет сердце
- По жилам кровь живую,
- И что, порой, напрасно
- Давал страстям улечься,
- И что нельзя беречься,
- И что нельзя беречься…
Это начало 1960-х, точнее – 1963 год. Не столь уж позднее признание. По-моему, лучшее стихотворение о любви у Самойлова. И, конечно, не только у него. Его напев, как часто у Самойлова, жизнерадостен. Если это песня, то мажорная. А суть, настрой – вопреки напеву. Как и, быть может, вопреки характеру поэта. Хотя, в конечном счете, нас выручает всё равно жизнелюбие – поездка, возвращение к пирам молодости. А это уже не против характера, а в русле Самойлова.
Из поэмы «Струфиан»
- Дул сильный ветер в Таганроге,
- Обычный в пору ноября.
- Многообразные тревоги
- Томили русского царя,
- От неустройства и досад
- Он выходил в осенний сад
- Для совершенья моциона,
- Где кроны пели исступленно
- И собирался снегопад.
- Я, впрочем, не был в том саду
- И точно ведать не могу,
- Как ветры веяли морские
- В том достопамятном году.
- Есть документы, дневники,
- Но верным фактам вопреки
- Есть данные кое-какие.
- А эти данные гласят
- (И в них загадка для потомства),
- Что более ста лет назад
- В одной заимке возле Томска
- Жил некий старец непростой,
- Феодором он прозывался.
- Лев Николаевич Толстой
- Весьма им интересовался.
- О старце шел в народе слух,
- Что, не в пример земным владыкам,
- Царь Александр покинул вдруг
- Дворец и власть, семейный круг
- И поселился в месте диком.
- Мне жаль всегда таких легенд!
- В них запечатлено движенье
- Народного воображенья.
- Увы! всему опроверженье –
- Один престранный документ,
- Оставшийся по смерти старца:
- Так называемая «тайна» –
- Листы бумаги в виде лент,
- На них – цифирь, и может статься,
- Расставленная не случайно.
- Один знакомый программист
- Искал загадку той цифири
- И сообщил: «Понятен смысл
- Ее, как дважды два – четыре.
- Слова – «а крыют струфиан» –
- Являются ключом разгадки».
- И излагал – в каком порядке
- И как случилось, что царя
- С отшельником сошлись дороги...
Снова лукавство во всей красе. История, в которой Самойлов чувствовал себя уютно – потому что это пушкинское время, конец дней Александровых. Много написано о загадочной смерти императора, о старце Фёдоре Кузьмиче, о его записках… Этот исторический анекдот и Льва Толстого интересовал. Самойлов изящно вмонтировал в известную мистическую историю научно-фантастические картины. Получилось впечатляюще. Но, чтобы это понять, нужно прочесть всю поэму. А написана она как будто в XIX веке, но от этого ничуть не грустно.
- = = =
- Вот и все. Смежили очи гении.
- И когда померкли небеса,
- Словно в опустевшем помещении
- Стали слышны наши голоса.
- Тянем, тянем слово залежалое,
- Говорим и вяло и темно.
- Как нас чествуют и как нас жалуют!
- Нету их. И все разрешено.
Это стихотворение, которое неизбежно любят цитировать историки литературы ХХ века, Самойлов написал вскоре после смерти Анны Ахматовой. И это важно. Понятно, что речь идет об уходе целой плеяды великих, но родство Самойлова с Ахматовой по пушкинской линии очевидно. Поэтому получилось так непритворно. Как и другие его стихи о ней: «Меня Анна Андревна Ахматова / За пристрастье к сюжетам корила. / Избегать бы сюжета проклятого / И писать, как она говорила. // А я целую кучу сюжетов / Наваял. И пристрастен к сюжетам». Есть в этих стихах эмоциональное самоучижение. Но прочитывается и гордость. А самый лучший образ, на мой взгляд – «слово залежалое». Сразу понятно, какого слова Самойлов искал – не залежалого. И это ключ ко многим его стихам.
Гость у Цыгановых (Из поэмы «Цыгановы»)
- — Встречай, хозяйка! — крикнул Цыганов.
- Поздравствовались. Сели.
- Стол тесовый,
- Покрытый белой скатертью, готов
- Был распластаться перед Цыгановой.
- В мгновенье ока юный огурец
- Из миски глянул, словно лягушонок.
- И помидор, покинувший бочонок,
- Немедля выпить требовал, подлец.
- И яблоко мочёное лоснилось
- И тоже стать закускою просилось.
- Тугим пером вострился лук зелёный.
- А рядом царь закуски — груздь солёный
- С тарелки беззаветно вопиял
- И требовал, чтоб не было отсрочки.
- Графин был старомодного литья
- И был наполнен желтизной питья,
- Настоянного на нежнейшей почке
- Смородинной, а также на листочке
- И на душистой травке. Он сиял.
- При сём ждала прохладная капуста,
- И в ней располагался безыскусно
- Морковки сладкой розовый торец.
- На круглом блюде весело лежали
- Ржаного хлеба тёплые пласты.
- И полотенец свежие холсты
- Узором взор и сердце ублажали.
- — Хозяйка, выпей! — крикнул Цыганов.
- Он туговат был на ухо.
- Хмельного
- Он налил три стакана. Цыганова
- В персты сосуд гранёный приняла
- И выпила. Тут посреди стола
- Вознёсся борщ. И был разлит по мискам.
- Поверхность благородного борща
- Переливалась тяжко, как парча,
- Мешая красный отблеск с золотистым.
- Картошка плавилась в сковороде.
- Вновь жёлтым самоцветом три стакана
- Наполнились. Шипучий квас из жбана
- Излился с потным пенистым дымком.
- Яичница, как восьмиглазый филин,
- Серчала в сале. Стол был изобилен.
- А тут — блины! С гречишным же блином
- Шутить не стоит! Выпить под него —
- Святое дело. Так и порешили.
- И повторили вскоре. Не спешили,
- Однако время шло. Чтоб подымить,
- Окно открыли. Двое пацанов
- Соседских с боем бились на кулачки.
- По яблоку им кинул Цыганов,
- Прицыкнув: — Нате вот и не варначьте! —
- Тут наконец хозяйка рядом с мужем
- Присела. Байки слушала она
- Мужские — кто где ранен, где контужен.
- Но снова два соседских пацана
- Затеяли возню…
- Уже смеркалось.
- Тележным осям осень откликалась.
- Но в каждом звуке зрела тишина.
- Гость чокнулся с хозяйкой: — Будь здорова!
- — Будь! — крикнул Цыганов.
- А Цыганова
- Печально отвернулась от окна.
Почти та же эпоха, русский XIX век. Поэма, к которой Самойлов возвращался несколько лет – снова во многом построена на диалогах, на очаровании прозаизмов. Это поэма о крестьянской жизни – почти буколический эпос, прославляющий хлебосольство, продолжение рода и оплакивающий героя на закате жизни. Тут нужно вспомнить и Гесиода, и Державина, и Пушкина. Исследователи вспоминали – весьма кстати – и Гоголя, и полузабытого Филимонова (кстати, во многом близкого Самойлову). Для 1970-х – нехарактерная интонация в поэме о дореволюционных крестьянах, но Самойлов не стремился в «современные». Этот отрывок – о празднике жизни, от которого не следует уклоняться. Конечно, вспоминается и поэт Николай Цыганов (1797–1832) – сын вольноотпущенного крепостного. Простецкий современник Пушкина, бард Золотого века поэзии, автор «Красного сарафана». А слова здесь у Самойлова сплошь – не залежалые.