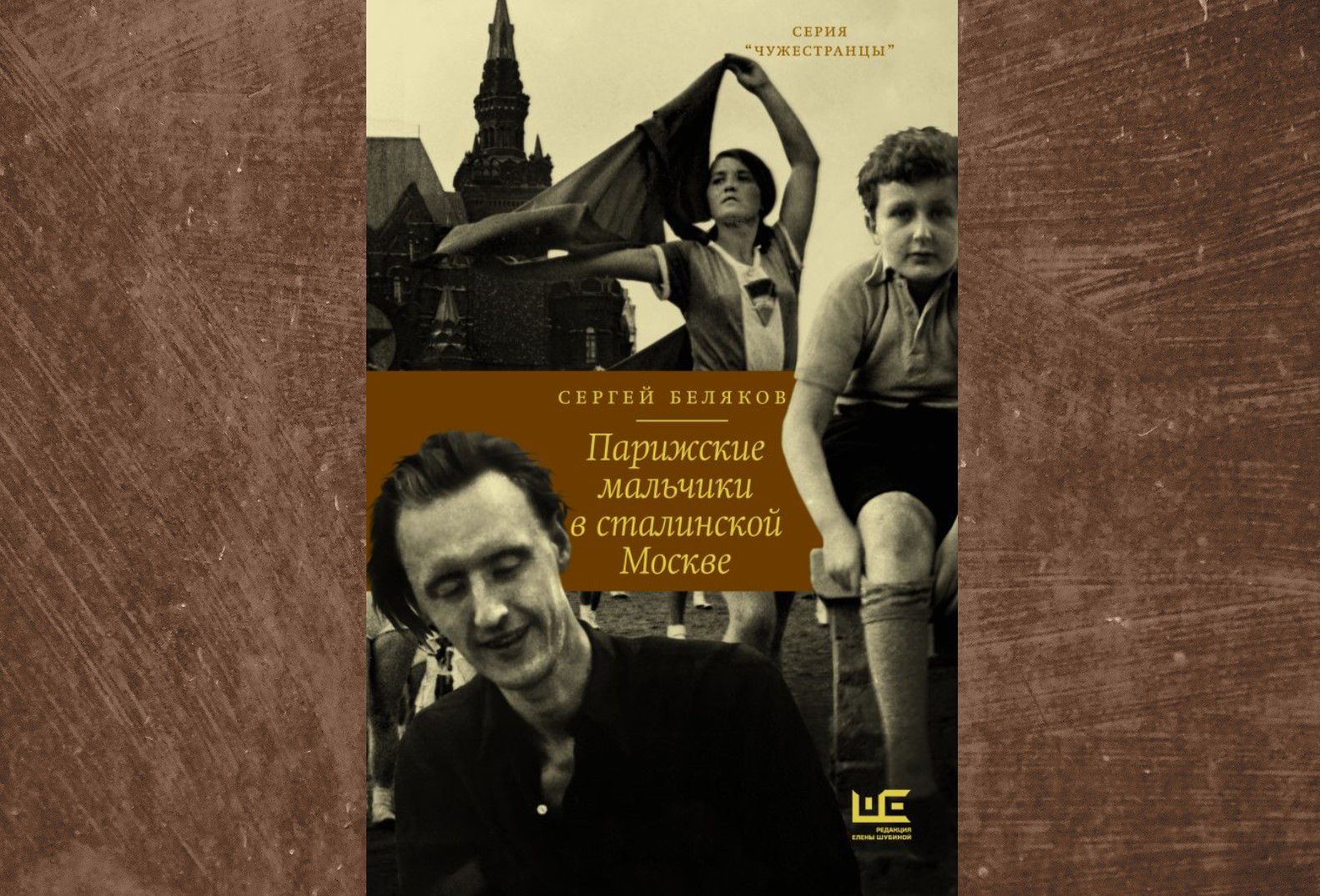Текст: Антон Осанов
Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве». М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022
Обычно подобная литература начинается с предложений а-ля: «В 1934 году на Шафтсбери-авеню вышагнул высокий господин в необычной фетровой шляпе». А дальше сцепляют и мельчат: где выпускали шляпы, и кто помимо шляп что носил, и чем кормили в столовке депо — и так крючочек за крючочком, бретелечка за бретелечкой, до самого конца. То есть в подобного рода литературе важно правильно задать первое предложение, а дальше всё само, машинная вязка.
Так вот оно устроено. Что в «Ad Marginem», что у Елены Шубиной. Все так пишут.
Новый труд Сергея Белякова лишь подтверждает правило:
Вечером 31 января 1925 года в деревню Горни Мокропсы к тридцатилетнему доктору Григорию Исааковичу Альтшуллеру прибежал чешский мальчик…
И этим всё предопределено: с первого предложения разворачивается качественная стереоскопическая компиляция, подробный бытовой комментарий эпохи, где слова и факты толкутся, как люди в очередях. Сначала это вечно левый Париж, потом сталинская Москва, по которой проведут Георгия Эфрона и — немного — его друга Дмитрия Сеземана. Русские по рождению, советские по гражданству, французы по культуре — все три контекста настолько обильны, что их пересечённости мало для одной только семисостраничной книги. Понимая это, текст торопится уместить всё: презервативы от «Красного резинщика», экспериментальный турникет с жетонами на станции «Дворец Советов», сколько стоил портвейн «Массандра», почём можно было приобрести крабов сорта «Чойс» и прочую тьму фактов и фактиков, которые вроде как должны соткать эпоху, но в итоге затмевают её героя.
Текст хотел показать, что Георгий Эфрон — не «сын Цветаевой», а самостоятельная личность, но так вышло, что героем книги оказался захлестнувший парня временной поток.
Всё-таки сталинская повседневность — тема неисчерпаемая. Под одной обложкой не вместить даже предвоенную Москву, а если попытаться, выйдет скученность, которая зашуршит героев, как это произошло с Георгием Эфроном при дотошном перечислении советских конфет. Тем более историю повседневности опять поняли очень узко — это ведь не срез быта и не перечисление вещей, как привыкли считать в России популярные книжные серии. В подходах антропологизированной истории повседневность вот уже более полувека рассматривается как субъективная интерпретационная значимость. Повседневность — это не сами по себе вещи, а отношения людей по поводу вещей, где вещи начинают означать какой-то социальный порядок, какую-то личную субъективную убеждённость. Из-за чего повседневность не существует как данность, а оказывается встроена в слоёный пирог восприятия, где есть, например, место для не-повседневности (государственных праздников или ритуалов). Следовательно, сам смысл обращения к истории повседневности состоит в том, чтобы не перечислить её, а показать те места, из которых о ней говорят, из которых её вообще видят — очевидно, что для фланирующего Мура и запыханного чернорабочего московская повседневность будет разной.
Все подобные тонкости в исследовании Белякова полностью проигнорированы. Это лишь скрупулёзный каталог быта — справочник, имеющий смысла не больше, чем сбережённая телефонная книга.
Методологическая ошибка приводит к ошибке концептуальной. Правильно подобранный ключик к истории повседневности мог бы выхватить витрину сталинского социализма посредством юного, по-европейски воспитанного интеллектуала. Вместо этого Мура манифестируют с той же убийственной прямотой, что и пять сортов селёдки или двадцать девять пар брюк товарища Ягоды. И вот это вынести уже невозможно по невинной, но какой-то даже неприличной причине.
Он не герой даже в заданных жанровых рамках, в нём нет противовеса семистам страницам. Верхоглядство Мура настолько очевидно, что его сознательно прячут в детально прописанных декорациях, подобно театральной бутафории, пышность которой должна скрыть бесталанность актёра. Ну в самом деле, что такого важного сообщает муровская жажда совокуплений? Да только то, какие у кого были жёны и где можно было достать контрацептивы. К чему должно привести настойчивое внимание Мура к своей одежде? Только к тому, как он выглядел. Да, Мур умён, да, была «Проба пера», но Эфрон погиб преступно рано, в жалкие девятнадцать лет, и просто не успел на поступок, на важную мысль. И этого вот подростка зачем-то проводят через тщательно прописанную Москву, которая не может иначе его показать и на которую он сам не может взглянуть в интересной оптике.
Это опять шаблон. В «документальной» литературе обстановка как бы протягивает под собой персонажа. Причём, как под днищем пиратского корабля, протягивает по наростам и отложениям, в кровь обдирая героя, от которого остаётся только схематизированный скелет. А эпоха… эпоха да, подробно исчислена.
Второго «мальчика», Дмитрия Сеземана, в тексте немного. Зачем он введён, окромя возможности удачно назвать роман? Так ведь ради концовки, ради литературоведческого наказа: таким вот Сеземаном, вернувшимся в родной Париж, мог быть Георгий Эфрон, если бы не та война. Сеземан нужен Белякову для того, чтобы молодой Эфрон смотрелся не совсем уж поверхностно, чтобы его подростковость могла вырасти, выжить и осуществиться в том, чего этот человек, безусловно, заслуживал:
Если бы сын Цветаевой дожил до 1976 года, он, вероятно, составил бы компанию своему “другу Мите” и вернулся бы в Париж.
То есть мало того, что персонажей «тянут», так тянут привыкшими к литературоведческому канату руками. На опыте, на классе. Но если тянуть, то на стиле, которого книга, к сожалению, лишена. Безвыразительное, скучное, кое-где даже примитивное письмо.
Но если произведение так невыразительно и так повседневно, если герой в силу неодолимых обстоятельств пуст, в чём ценность работы Белякова? Очевидно, в научной новизне. Достаточно ли её? Увы, нет.
Из почти тысячи трёхсот сносок обстоятельно выглядит только работа в РГАЛИ. В остальном — кучка французских источников, пара свидетельств из Болшево и несколько приватных бесед, две из которых — с Натальей Сеземан и Мариной Мошанской — в общем-то и пытаются придать книге её реконструкционную достоверность. В основу книги положен доступный интернет-материал, который при желании мог скомпоновать любой цветаевед. Безусловная заслуга Белякова в том, что он, в отличие от других, оказался готов потратить время на сведение и подсчёт, но из-за скупости задействованных источников авторский замысел так и не вышел за рамки обширного исторического комментария.
Например, из архивов РГАЛИ был задействован по сути всего один фонд. Беседы ограничиваются числом пять. Явно недостаточно просмотрена периодическая печать. Круг французских источников больше напоминает точку. Одна ссылка бита (на книгу о советском футболе А. Вартаняна). То есть в работе крайне мало исследовательского эксклюзива, собственно того, ради чего подобные тексты и пишутся — на доступном и притом качественном уровне ввести в оборот то, что пылилось на полках и было известно лишь нишевым специалистам. Но «Парижские мальчики» не похожи и на популярное обозревающее чтиво — скупое в словах, приверженное фактам, а не фантазии, оно остаётся подробно законспектированной реальностью. Какой в этом прок — решительно непонятно.
Как непонятно ничего и о Муре. Все, что выуживаешь из книги: очень хотелось любви и вещей, а потом убили в девятнадцать лет. Что-то подобное произошло и с исследованием Сергея Белякова. Очень хотелось внимания к человеку и внимания из человека, а получился справочник, в лучшем случае путеводитель.
К тому же опять по Москве.