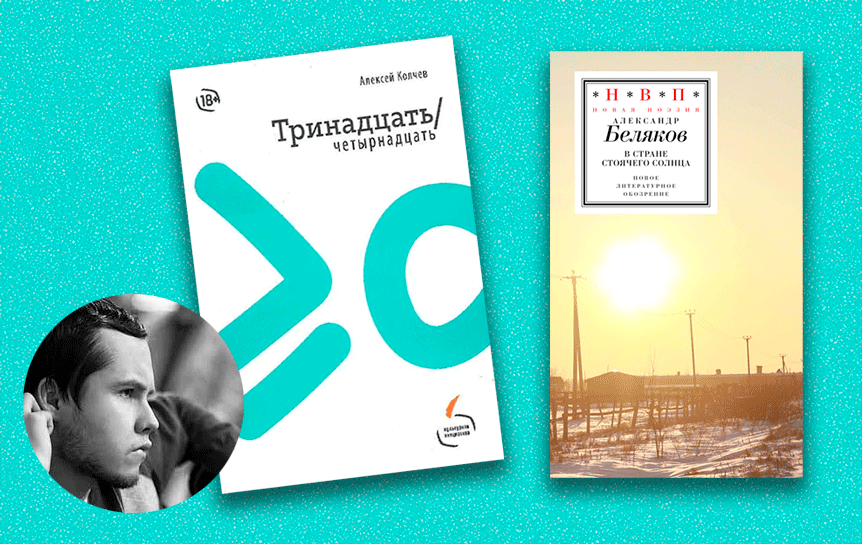Текст: Борис Кутенков
Александр Беляков. В стране стоячего солнца. Стихотворения 2019–2023 годов
- Предисловие Данилы Давыдова. –
- М. : Новое литературное обозрение, 2024. – 240 с. (Серия «Новая поэзия»)
Манера Александра Белякова в новой книге узнаваема: сконцентрированные силлабо-тонические рифмованные восьмистишия (реже – более длинные стихи, ещё реже – случаи белого стиха) на грани философемы и притчи; едкая ирония, тонко скрывающая за собой свидетельство о времени и человечестве. В предисловии Данила Давыдов цитирует Михаила Айзенберга – значимого литературного учителя автора, – отмечает сходство с Виталием Пухановым и Алексеем Александровым, но перед глазами встают и жёсткие восьмистишия «Самопала» Дениса Новикова (1999). Здесь как будто усилен момент иронии – местами кажущейся очень смешной, местами трагической, но неизменно холодноватой в своём всеведении, – в противовес злому скепсису, сопровождающему новиковскую книгу:
- перекрутились дни
- на летней полосе
- какой ни потяни
- прихватываешь все
- ловушка душных нег
- сама себя плетёт
- и длительный разбег
- не обещает взлёт
У Белякова замечательно получается говорить от имени «мы» (даже если это слово и не произнесено) – то, что убивает 90 процентов стихотворений тягой к неоправданным обобщениям. Этот лирический голос всё время сообщает нам что-то важное о нас – но ирония, дезавуирующая «утверждение», превращает текст из просто абстрактной философемы (даже сколь угодно детализированной в своей конкретике) в жест поэзии; работа мысли «подавляется» силой авторского всезнания, растворяется в интонации, языке. Слова «философема», «притча», употреблённые нами в начале рецензии, таким образом, оказываются не относящимися к книге – и нужными только для того, чтобы показать весьма отдалённое сходство. Стихотворение Белякова вновь и вновь ставит – самим своим существованием – перед нами пушкинский вопрос о рациональном в поэзии («он у нас оригинален, ибо мыслит»):
- негромкая порука
- непрочная кювета
- остаточного звука
- достаточного света
- из прожитого добыт
- и найден очень веским
- такой особый опыт
- что поделиться не с кем
Мир Белякова лишён иллюзий и в отношении человека, и в отношении человечества; одно из самых жутких стихотворений в книге, напоминающее о «безруком» Ходасевича, повествует о макабре и желании спрятаться в «родовую тьму». Даты под стихами (в данном случае декабрь 2019) создают точную опись времени:
- в коридоре памяти именной
- скачет с ножиком пьяный глухонемой
- и супруга ему внимая
- пляшет с вилкой глухонемая
- на закате детских эдемских лет
- я узрел за дверью этот балет
- чтобы юркнуть домой
- в родовую тьму
- и прислушиваться к нему
- территорий отчих не обойти
- где танцуют макабр на твоём пути
- стыд и слава
- друг и подруга
- собираясь убить друг друга
За кадром как будто всё время встаёт ещё что-то – высказывание о конкретных общественных событиях, самом обществе; стихи порой близки к эзопову языку (отстраиваясь от возможности вульгарной дешифровки: «что автор имел в виду?», от публицистики – ввиду всё той же авторской интонации). Зачастую от «утверждения» – в противовес поэтическому называнию – «спасает» не только приподнимающая ирония, но и как бы учитывание разных правд, их схождение («две головы одного изголовья», как пишет автор в одном из текстов).
Особенно едки и блистательны разбросанные по текстам отражения возможного разговора о собственных стихах («сквозной сюжет», «апофеоз разговора», «нарратив» – прямые пародии на «птичий язык» филологов звучат обычно глупо, но в стихах Белякова эти упоминания выполняют важную дезавуирующую функцию, становясь частью тотальной авторской иронии). Такое предвосхищение диалога как будто обессмысливает возможную оценку, едва ли не пресекает возможность разговора о книге – из этого семантического тупика с трудом выбираешься в плоскость анализа. В предисловии Данила Давыдов пишет не только о «компактности», «плотной подогнанности всех элементов» и «максимальной концентрации», но и о случае «автометаописания» у Белякова. Не знаем, насколько вероятна здесь данная самим автором подсказка, как читать эти стихи, – вряд ли. Скорее – стиховая рефлексия, важная для этой книги, словно отменяет возможный язык своего описания на фоне смутного времени, не подразумевающего литературоведческих кунштюков:
- нарратив идёт на слом
- силлогизм устал
- этот пил и стал козлом
- тот не пил и стал
- <…>
В последнем примере мы вновь видим столкновение, которое сводит выговариваемую «правду» к потенциальной бесконечности правд – нивелируя статус «высказывания», приводя текст к чему-то большему. Говоря пафосно, к правде поэзии.
Столкновение сущностей здесь распространяется не только на стиховую рефлексию – но и на интеллигентскую филологическую иронию, внутри которой смыслы выхвачены из повседневного языка, из трёпа соседей по референтной группе, но перерастают афоризм или шутку, вновь становясь точным обобщающим свидетельством. Вот Мандельштам с его «опущенными звеньями», и одновременно – Катаев; оба эксплицитно выражены, но на выходе – Беляков с его индивидуальным художественным оскалом, предельно усиленным грамматическими рифмами:
- звенят в траве забвенья
- пропущенные звенья
- с терпеньем в унисон
- и камни преткновенья
- летят со всех сторон
- <…>
Наплывание контекстов – мандельштамовского, катаевского, библейского – до неразличимости, до сумятицы примитивных рифменных нагромождений выполняет художественную задачу – показать «круженье балаганное», где «становится курганом / апофеоз труда»; вавилонское смешение языков, в котором только «нигде», «никуда» становятся самостоятельными сущностями. Эта персонифицированная апофатика – «плывёт волшебница никак / поёт своё ничто» – в книге Белякова обретает особую силу; «креативный заряд изгойства и мощь немощи», как сказала Татьяна Бек об одном из мотивов поэзии Арсения Тарковского. Несмотря на безутешность книги, и сила персонификации с частицей «не», и заряд иронии (в её, иронии, особенно смешных моментах) оказываются способными помочь и разделить участь – и это при честном и неотрывном взгляде лирического субъекта на происходящее.
Лучшие стихи в этой книге, впрочем, те, где «знание» уступает «пению» (их бинарная оппозиция выражена в одном из текстов). Где стихи оказываются нам нужны в каком-то особом смысле – не просто «высказывания», «говорения», хотя и эта точность привлекает, может быть, не в последнюю очередь при чтении Александра Белякова, – но в смысле семантическом. Где «рациональное» подавлено и вместо тотальной иронии проступает чистая стихия языка:
- река немолчного напева
- темна как стынущая лава
- ещё вскипающая слева
- уже твердеющая справа
- эпоху охлажденья в жиже
- не остановишь земснарядом
- и звук уже как будто ниже
- и тишина как будто рядом
Алексей Колчев. Тринадцать/четырнадцать. Сост. Д. Файзов, Ю. Цветков
- Вступ. ст. Е. Прощина.
- – М. : Культурная инициатива, 2024. – 138 с.
«к. бальмонт в. брюсов а. блок а. белый» в этой книге – «шум, спиритические голоса»; дети тут «играют с умершими в прятки», а «веничка ляжет в венчике». Таков универсум одного из крупнейших поэтов современности, Алексея Колчева (1975–2014), чьё собрание текстов, ранее не вошедших в книги, вышло в издательстве «Культурной инициативы». Вряд ли речь в колчевских стихах о создании альтернативной версии русской литературы, хотя при поверхностном прочтении этот мир может показаться и таковым. Но в одном из процитированных выше текстов («звоночки») и Галич с его шизофрениками («веничка вяжет венички»), и Ерофеев, и Блок с его венчиком из роз предстают в неразложимом метатексте, где едкость диминутивов только подчёркивает сущность мирового абсурда – и обессмысливание иерархии, смешение всех в одном котле. Нимбы здесь органично соседствуют с тиняковскими «плевочками» – мир выступает как гигантская психбольница, где иерархия отмотала свой срок:
- выстужены на спевочке
- нимбы цветут как почки
- ямочки злые плевочки
- ямбочкины плевочки
- мамочкины сопелочки
- старые те же детки
- веничка вяжет венички
- подбирает ветки
В одном из текстов, впрочем, закономерно встаёт, хоть на мгновение, вопрос «а судьи кто?» – и осознанный выбор имён, даже способный показаться произвольным их скрещением, становится необходимым для создания метатекста о мире, в котором творится нескрываемый произвол, для социальной драмы (важный жанр в поэзии Колчева). Иванов (очевидно, Георгий) и Пастернак предстают индивидуально выбранными «судьями»; Пастернак – камертон духа (а значит, своеобразный судья, но в другом, противоположном произволу значении). Однако он – и жертва беспощадного судилища, чьё имя органично ложится в этот контекст, напоминая о трагическом финале его истории:
- а судьи кто? иванов пастернак
- цветаева не суд – пир духа
- заводят в зал
- – за что тебя кирюха
- за просто так
- а в протокол записано разбой
- бессмысленный и беспощадный
- ответит руганью площадной
- небрежно оттопыренной губой
- летай летай над крышей нетопырь
- рыдай рыдай повязку сняв фемида
- услышав приговор умри для вида
- сухие пальцы растопырь
Со второй строкой можно поспорить – особенно учитывая слова Цветаевой про «Страшный суд слова, на котором я чиста» и её метафору справедливого суда применительно к литературной критике. Но здесь направление эстетических координат непререкаемо; поэт сам создаёт этот универсум, выбирает «старших», а значит, вольно или невольно подсказывает путь чтения собственных текстов. Особый смысл тексту придают и ненормативно, при этом осмысленно расставленные ударения (в предисловии сказано о сохранении особенностей авторского написания; в книге эти ударения выделены курсивом, в нашей рецензии – подчёркнутым шрифтом ввиду особенностей оформления цитат) – если про «рая» в одном из стихотворений определённо не скажешь, для чего это нужно, то «площадной» здесь семантически значимо – усиливается ассоциативное значение ада. К тому же по сравнению с расхожим фразеологизмом «площадная брань» здесь отчётливее выделяется семантика площади, выступления, происходит трансформация клише.
Моменты литературной иерархичности у Колчева, однако, редки – чаще в смешении имён констатируется смерть литературы как осмысленного целого («бродский бродский полозкова / после полуполозкова»), своеобразный релятивизм; временами – глухота как данность, как в горьком и правдивом тексте (с посвящением «на смерть в. ф.»; в сноске от составителей выдвигается предположение, что адресат – Василий Филиппов, трагическая легенда питерского андеграунда):
- впервые слышу о таком
- а он был маменькин-сынком
- он был цветком
- и потолком
- и в теле лишним позвонком
- а я так ничего не слышу
- я тоже ничего
- пойдём на крышу пить вино
- смеясь как кмети
- я на ногу надену лыжу
- фуражку смерти на чело
- фуражку смерти
- нам умереть не суждено
- но мы умрём
- посыпанные крупной солью
- и мы мальстрём
- о что мне делать с этой болью
- дышите медленно – ноздрём
Закадровый голос стихотворения как бы воспроизводит стереотипную реакцию на смерть поэта, локально известного в расколотом и перенасыщенном информационном пространстве (в самом деле, можно ли сказать об очевидности имени Василия Филиппова – притом что для нас его значение безусловно? А для младшего поколения? А очевидно явное имя вроде Гандлевского – очевидно ли явное?) Рефлексия над самим понятием безусловности, значимости наталкивается на поэтический эгоцентризм (в строке «я тоже ничего»); целановская «фуга смерти», как бы измельчав, превращается в «фуражку смерти», а финальный голос преподносит насмешливый рецепт борьбы с собственной болью – оформленный внутри стилистической эклектики. Романсовая, едва ли не осознанно пошлая строка («о что мне делать с этой болью») – и язвительность, сбивающая этот пафос. В отзыве на обложке книги Алексей Александров пишет о «жизни на фоне текста, превращающегося на глазах читателя в знакомые руины, в “и это тоже мы“». И это тоже мы – со всем пафосным эгоцентризмом и «впервые-слышимостью». Приподнимающийся над декларацией голос, ни на минуту не дающий отождествить себя с позицией самого лирического героя, как-то отчётливее говорит обо всех нас, чем «позиция», которая могла бы быть на этом месте. Пожалуй, слова Михаила Айзенберга о «несобственных голосах» давно не понимались при чтении с такой остротой.
Порой стихи Колчева напоминают самые жёсткие картины Балабанова или Звягинцева – тут речь не об эстетизации некрасивого, а о некрасивом как оно есть; при этом (даже и в сравнении с фильмами этих режиссёров) нигде не сгущается «чернуха», есть «физиологически честное наблюдение за “бедолагами-героями“» этой книги (как замечает Виталий Лехциер в одном из отзывов, помещённых на обложку). Чувствуется влияние Лианозовской школы, но ещё отчётливее – Олега Григорьева, из которого как бы «вынута» анекдотическая внешняя форма, осталось хтоническое начало (одно из стихотворений так и называется «хтоническая баллада», хтонь в стихах Колчева ясна и без дополнительной маркировки). Поэт в России – «вергилий он и байрон он и фрост», «орфей и эвридик в одном лице», но только при условии вливания в себя определённой жидкости, а без неё – «больше чем говно».
- – ответствуй мне случайный проводник
- зачем ты к горлышку прозрачному приник
- хлебнуть сто грамм реки забвенья?
- – в реке твоей пустые невода
- я прочищаю горло для труда
- смотри сюда как хлещет внутрь руда
- выходит пенье
Приведённая концовка на первый взгляд может показаться вполне классичной – вряд ли отклик на «словесную руду» Маяковского, скорее воспроизводится романтический штамп о «выходящем пенье», которое подвластно лишь свободной воле художника. Однако подразумевание второго смысла «пенья» в этом тексте, которое следует после «руды», его закадровый оттенок, физиологически обусловлено (вливается отнюдь не «руда», а конкретный «агдам»). В этом – вновь соответствие колчевскому мрачному универсуму и свойственная ему ирония над расхожими формулами (в данном случае – над маяковской). Тем заметнее злободневность колчевских строк, их неприменимость к «вечному» и актуализация в текущем моменте – ну, скажем, в десятых, перетекающих в двадцатые, где высокопарный пафос лиризма возможен только в ореоле жёсткой деконструкции.
Иногда реакция мира звучит как передразнивание: «заходишь в чат – а там и звёзды близки / (повсюду чад и слизни склизки)». В последнем примере есть и коварство информационного мира, искажённо преподносящего информацию, и горькая весть о паучьей глухоте. (В первой строке не слышится ли аллюзия на строку рано ушедшего поэта Андрея Туркина – «Но взглянешь на небо – там звёзды одне», заимствованную Виктором Пеленягрэ и ставшую частью песни группы «Белый орёл» 2001 года?) Мне в этих двух строках чудится какой-то ответ литературной критике и её печальная сущность – в неверном восприятии слов, которые «выходят из руды» поэта. Я-сам, мы-сами становимся частью этого лирического универсума как возможные аналитики текста – вспомним подобный приём в книге Александра Белякова, оценим сходство и разность.
В одном из подобных примеров – в заглавном стихотворении книги – соотношение между добром и злом преподносится схожим, «передразнивающим» образом («люди злы добры злы добры злы злы обрыданные обрыдлы»). «Многократное повторение обессмысливает любую фразу», – пишет Колчев. Будем надеяться, что диагноз «обрыданные обрыдлы» – каждый несчастен, уязвим и достоин жалости – если не побеждает, то, по крайней мере, уравновешивает колчевский центральный сюжет о зле мира (которое, как видим, выходит на первый план даже в этой строке). Тем более стихотворение ушедшего поэта часто завершается открытым финалом, даже будучи социальной драмой. А значит, «подвешивает как на нитке» этот финал – подразумевая не только неизбежность ужаса, но и возможность спасения:
- дитя через улицу перебегает
- у девочки кукла и шарик на нитке
- пока светофор на мгновенье мигает
- семья распивает спиртные напитки