Текст: Борис Кутенков
Стас Мокин. Дневник
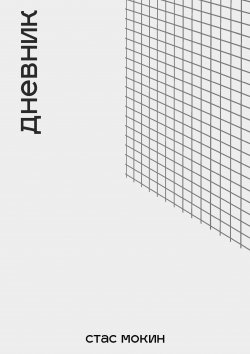
- Самиздат, 2023. – 170 с.
Если поэзия в целом, согласно восточной формуле, – искусство утешать не обманывая, то про стихи Стаса Мокина можно сказать, что они обманывают без лжи. Представая на первый взгляд речитативной, потоковой детской речью с явными признаками неопримитивизма (а значит – стилизации?) и версификационной неумелости, они обнаруживают органику внутри непривычного для поэзии типа высказывания. Это не простота песенности или околопоэтического масскульта – ибо лишено общих мест; но вряд ли можно вести речь и о сознательном подражании искушённого поэта наивному письму. По сути, стихи Мокина побуждают осмыслить себя именно так – апофатически, как будто совсем исключая разумеющийся разговор о приёмах, влияниях, искусстве. Хотя и здесь можно найти предшественников – прежде всего, это Ксения Некрасова и Василий Филиппов, но я бы вспомнил и «нетипичного» Хлебникова, того, который не заумь, а кристальная ясность высказывания.
Будучи неподдельными, как природа, тексты Мокина ошарашивают, как минус-приём, – то, что было на видном месте, но возможность нахождения чего совсем не априорна. (В одной рецензии Леонид Костюков точно сравнивал литературную удачу Олега Дозморова в книге «Смотреть на бегемота» с находкой грибника, в равной степени неочевидной и разумеющейся: «Так, бывает, едешь в пригородном автобусе — и вдруг входит дяденька с полной корзиной грибов, деликатно прикрытых листьями. Кто мешал тебе оказаться на его месте? Вроде никто. С другой стороны, когда в следующие выходные ты сам углубишься в красивую рощу с корзиной и ножом, никакой гарантии успеха у тебя нет. Гриб, пока спрятался в траве у дерева, — ничей, а в корзине он у Олега Дозморова».) Однако пора наконец и процитировать.
- о как давно все это было
- мы не общалися с тобой
- и даже каша ведь остыла
- повергнутая судьбой
- а щас скажи кому еще
- мы не общаемся с никитой
- получишь ты лещелещо
- в лицо рыбешенькой умытой
- а он мне даже ни привет
- ни как дела не скажет
- и нет и нет и нет и нет
- ответа никакого
- наверно плохо моему
- родному другу очень плохо
- а как помочь?
Тут ощущаешь себя ягнёнком из анекдота с его вопросом «а что, так можно было?». Да, оказывается, можно, – и, оказывается, высказывание достигает цели. Между тем, этот способ письма способен повергнуть в растерянность – так как в первую очередь требует преодоления отторжения, которое непременно вызовет подобная неискушённая речь у «профессионального» читателя. (Почему это «профессиональный» при чтении стихов Стаса Мокина нужно заключать в кавычки, думаю, в пояснениях не нуждается.)
В то же время есть в «Дневнике» и то, что находится за пределами основного массива сборника: приговская деконструирующая ирония и весёлый минимализм. И, пожалуй, есть главное, ради чего, может, и стоит читать эту доверчивую книжку, – переживание юности, подростковости с её потоковым выговариванием, некоторой сумятицей переживаний и – что важно – сюжетом произрастания «странного» ребёнка в мире недетского ужаса. Что отсылает уже к «Школе для дураков» (речь Мокина часто напоминает об этом герое Соколова – и беззащитностью, и самим потоком сознания). Об этом – одно из лучших стихотворений в книге, с его тёмными лакунами и жутковатыми провалами сюжета при кажущейся ясности нарратива.
- снился вадик королев
- новый год и вкусный плов
- мы дружили и играли
- чуть не умерли
- а потом пошли гулять
- в этих сумерках
- и увидев дед мороза
- вадик мне сказал
- ненавижу елки. праздник.
- этот карнавал
- ненавижу все на свете
- и тебя еще
- праздник празднуют пусть дети
- ну а я пошел
Ростислав Ярцев. Свалка. Стихотворения и поэмы

- Изд-во: М.: Формаслов, 2023.
- Предисловие Валерия Шубинского, послесловие Ольги Балла. – 122 с.
Если стихи Стаса Мокина работают с непривычным именно в контексте переосмысленной простоты, то лирика Ростислава Ярцева требует преодоления расхожих представлений о «пафосе» и «высокопарности» («а сердце смотрит, как река рыдает, / всей кровью опрокинута на дно»). Всё это, будучи органичными особенностями речи, не имея ничего общего с интонационным давлением грифеля, возникает на краю невозможного (о возвращении «слов, образов, приёмов, которые казались общими и потускневшими», об их способности «снова обретать индивидуальность и яркость» пишет и Валерий Шубинский в предисловии к сборнику, интересной статье о новом поколении молодых лириков).
В то же время нельзя не отметить интонационное разнообразие книги: Ярцев словно движется во все стороны сразу, сохраняя верность основному драматическому нарративу, – здесь можно найти и семейный эпос, и масштабные вещи социального характера, и краткие философские этюды, не миновавшие влияния Виталия Пуханова. Но разнообразно и конкретное стихотворение: та же высокопарность возникает в пределах одного текста на контрапункте с соседствующими, часто противоположными ей интонациями. Пафос начинает работать внутри жёсткой императивной структуры.
- Закрой глаза. Смотри внимательно.
- Тебе я стану братом, матерью,
- опаской тьмы, обманом памяти.
- А ты мне будешь светом выстрела,
- стрелою света, сном чужим.
- О, как разлуки наши выспренни,
- какой у жирной тьмы нажим.
- Графит крошится, слëзы катятся.
- Пообещай надëжно прятаться.
- Ещë хоть что-нибудь скажи.

Строка «пообещай надёжно прятаться» – то, от чего вздрагиваешь; за тёмным углом речи, возникающим и исчезающим, появляется тайная история взаимоотношений едва ли не детективного свойства. И не сказать, что больше действует: сама внезапная жёсткость приказа посреди высокопарного лирического стихотворения – или ускользание этого требования, его одномоментное появление во всей просодической силе.
Ещё один пункт расхождения с расхожими представлениями, то, что требует чуткости слуха и внимания, – всеведущий голос. В рецензии (пока не опубликованной) на «Свалку» Анна Аликевич пишет об «ощущении себя синхронным трагедии мира» и подробно анализирует лирического героя как «реконструктора гибели цивилизации». Такая трактовка верна, и она тяготеет к продолжению разговора. С этим связан выход на обобщения. Там, где есть соблазн сказать про раздражающее «мы» (мол, не говори за всех), Ярцев достигает той степени интонационного подъёма, что размывает «я-позицию» в просторе хоровой стихии – и в то же время предельно конкретизирует её. Это не унылая дидактика и не обобщение, скучающее в дверях. Это, по формуле Андрея Таврова, – поэтика больших букв. Колющая и режущая истина о человечестве – самоочевидная и спрятанная, по-чеховски вынутая со дна сознания и придвинутая к нашим глазам:
- верёвочки меж людьми —
- тонкие, нежные, нераспутанные,
- бог знает из чего накрученные.
- ангелы прилежные их вьют,
- вяжут, тянут, не распускают,
- следят, тревожатся.
- а нам боязно, всё нам боязно,
- несвободно, тоскливо, суетно.
- всё нам хочется обрубить, растереть,
- поскорее уйти в сторонку.
- и трепещет в нас лапка, личико,
- жилка маленького ребятёнка.
Евгений Кремчуков. Облако всех

- Изд-во: М. : Воймега; Ростов-на-Дону: Prosodia, 2023. — 84 с. — (Серия «Действующие лица»)
Книга Евгения Кремчукова удивляет гармонией, не свойственной современной поэзии, погружает в гармонию, настаивает на ней: от образа семейственности, который становится центральным в первом же стихотворении и который красной нитью проходит через всю книгу, – до соприкосновения прошлого и настоящего, где отменяется линейность времени и все рядом, священные близкие и любимые призраки. Не так просто охарактеризовать эту интонацию: пожалуй, наиболее конструктивным будет разграничение между безмятежностью (которая окружала бы стихи обывателя при подобной тематике) и тем метафизическим дымком, той тревогой из области иррационального, которая и выдаёт подлинность – при всём спокойствии стихового облика. И – необманная протяжённость длинного – симультанного, по Тынянову, – времени:
- свет ли выключим — в метель
- в тереме светло
- если тридевять земель
- мелом замело
- если псковская княжна
- как сулит пурга
- ночь февральская длинна
- глубоки снега
Поэзия Кремчукова нарушает линейность на разных уровнях: начиная с отмены литературного времени («из Тургенева яблони растут / темноглазые девушки ходят мимо») и заканчивая взаимоотменой жизни и смерти («в ночь ложишься заживо один / к мёртвым спишь в воздушные грибницы»). Пожалуй, то, что сомнительно в обычной речи или эссеистике, — сближение времён, проекция прошлого на настоящее, и наоборот (о распространённости и неверности этих проекций есть замечательное эссе у Марии Степановой), в стихах оказывается живым и работающим. В итоге получается всё тот же образ семейственности – уже не в бытовом, а в предельно широком смысле, — «нетронутый мир» бесконечных и утешающих повторений,
- где у века в готовальне
- рядом все лежим одной
Применительно к стихам Евгения Кремчукова можно говорить о многом в литературоведческом ключе: и о новом развитии семейного эпоса, и о роли архаической стилизационности, и о новом витке жанра элегии. Но именно усилие возвращения – негромкая победа поэзии над временем с его кажущейся всеотменимостью – заставляет читать и вновь включаться в этот мир, торжественный и внятный в своей настоящести:
- остывшее оставшееся время
- следы его слепые обходя
- по адресам из старых карт кварталы
- о сколько неба над собой увидят
- и тишину нетронутой оставят
- и выйдут








