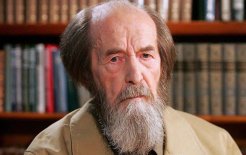Текст: Андрей Цунский
Когда торжества отгремели в очередной раз, можно задуматься о более важных вещах, чем уже не нужные юбиляру поздравления. К тому же юбилей так себе, промежуточный, а настоящий только предстоит – через пятнадцать лет. Увы – не настолько пафосный, как недавние. А главное – последний. Остальные будут памятными датами. Уже просто не останется в живых ни одного человека, для которого работа юбиляра была частью его собственной жизни. Их и сейчас-то уже немного.
А все попытки приспособить наследие Высоцкого ко дню сегодняшнему терпят неудачу.
Что остается от поэтов надолго? Лирика. Всяческая злободневность остается во вчерашнем дне. Песни о китайско-советской «дружбе» («китаец Мао раздолбал еврея Маркса», «Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины» и пр.) слишком привязаны к событиям и именам. «Утреннюю гимнастику», впрочем, могут взять на вооружение фитнесс-центры. А вот эта, про… нет уж, не дай бог. Хотя профилей нынче не колют.
«Лекция о международном положении» тоже утратила привязку к повестке дня. Причины можно называть разные. Если пройтись по разным песенным циклам, то многие из них уже изолированы от аудитории толстой прослойкой времени. Ни шестидесятые, ни семидесятые уже не вернутся. Прошлый век.

Но «Дорожная история» – остается! И ее слушают. «Я не люблю» – останется. Хотя, с подачи другого поэта, мы и правда, периодически поражаемся, сколько всего из того, чего не любили, успели уже прямо ностальгически полюбить.
А что до лирики философской, то ее так обильно расхваливают, а то и исполняют в попсово-манерном стиле, что... – вот тут, пожалуй, вставьте сами подходящие слова. Какие вставил бы сам Высоцкий, догадаться нетрудно. Кстати, даже при жизни его голос пытались сделать нежным тенорком, причем буквально: оркестровые аранжировки делали на полтора-два тона выше его обычной манеры. Якобы для благозвучия.
Лучше уж не будем помогать организаторам всяческих юбилейных истерик вчистую стесывать с маски поэта азиатские скулы. Такой он точно не нужен после смерти.
Но вот понять, почему он оказался так востребован, почему его переписывали с пленки на пленку, пока можно было разобрать слова, почему, как поэт, он всухую победил в борьбе за аудиторию других крупнейших поэтов своего времени, не говоря уж об официально одобренных – это требует обдумывания.
У нас первым поющим поэтом стал Александр Галич. Его песенный цикл о Климе Петровиче Коломийце тоже разошелся по стране на магнитофонных лентах вместе с «Облаками».
- Облака плывут в Абакан,
- Не спеша плывут облака…
- Им тепло небось, облакам,
- А я продрог насквозь, на века!
- Я подковой вмерз в санный след,
- В лед, что я кайлом ковырял!
- Ведь недаром я двадцать лет
- Протрубил по тем лагерям.
- До сих пор в глазах — снега наст!
- До сих пор в ушах — шмона гам!..
- Эй, подайте мне ананас
- И коньячку еще двести грамм!
Но полстраны не сидело в кабаках по одним дням с бардом, память у людей оказалась короткая. Да и на ананас с коньячком денег хватало далеко не всякому.
За ним шел по пятам Окуджава – и обогнал на круг вперед, вскоре вся страна тосковала, глядя вслед голубому шарику. Погибать «на той единственной гражданской» соглашались разве что в Политехническом музее, хотя каждый образованный человек знал наизусть десяток его песен. Многие знали, даже не желая того, поскольку другие "кавалергарды в пыльных шлемах" пели их на всех посиделках.
Бардов стало невпроворот. На кухнях, в общежитиях, в парадных и у костров в таежной чаще (хотя большинству годилась и лесопарковая зона) распугивали соседей, комендантов и медведей «Милая моя, солнышко лесное», «Думы окаянные» и ненаточенные ножи, резал уши бакштаг, звенящий как первая струна. Бричмула, туман и запах тайги, рукавичкой по зубам в дыму болгарских сигарет через дырочку в правом боку резинового ежика смешивались с польскими словами Агнешки Осецкой «Неспушчнемы, нимвжзджайджемы» (во что только не превращал польскую речь певучий, но тугоухий поклонник!).
Из глубины веков (а точнее из глубины века XIX) всплыл труп пошлых куплетов «Ветерок», которые Антон Павлович Чехов обозначил в первой своей пьесе первой строчкой:
- Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...
Повертелась эта манера по гитарам, по изгибам гитары ж… нет, одной гитары ей стало мало, так что – юркнула в попсу.
Куплеты объявились из тех мест, где время и память ох, как длинны. Магнитофонная пленка змеей ускользнула оттуда на волю, и вот уже в кабаках «для друзей, только что приехавших из курортного поселка Торбеево», или «уважаемых любителей музыки, вчера освободивших номер люкс в центральной гостинице города Владимира» звучала песня «А я откинулся, какой базар-вокзал», сменившая песню из этого же репертуара «Гоп, тили-тилибумбия», известную тогда всем по первому отечественному звуковому фильму «Путевка в жизнь». Надо же – первому. Прав был Андрей Донатович Синявский в своей работе «Отечество – блатная песня». Следом зазвучали заокеанские мотивы («Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой») – но вскоре смолкли. И дело не только в том, что изменилась страна. Сменилось поколение, а с ним и мировоззрение. А эта вещь пошире эстетических или политических предпочтений.

Поэта в Высоцком и открыл, и увидел именно Синявский. И об этом вы у нас уже читали. Это он сразу понял, что мальчишка с Большого Каретного лучше всех чувствует фольклорную основу русской песни, образные ряды ее, неспешную повествовательную манеру и понимает ее игру, освещенную блеском ножа в сумерках, «когда фонарики качаются ночные». Дураки до сих пор попрекают Высоцкого «блатной романтикой», но они не в состоянии понять, что вовсе не в романтике дело.
Не только власть, но и советский обыватель повинен в справедливости и точности формулы Андрея Синявского:
К поэтам она относилась в полной мере. Сейчас многие мечтают вернуть такое положение вещей.
Сочинительство по природе своей преступно, противно законам общества. Если вы берётесь за перо, значит, будете писать что-то недозволенное, непривычное, противное обычному образу жизни окружающих.
Когда Высоцкий впервые пришел на семинар к Синявскому в Школе-студии МХАТ, они сразу друг друга разглядели. Потом знакомство стало близким. «После окончания курса он с ребятами как-то попросился ко мне в гости... И Высоцкий, и другие ребята пели блатные песни. Володя исполнял их мастерски! Он стал приходить к нам в дом… Как только он начал сочинять песни, то нам это страшно понравилось, и он это видел».
Вспоминает и вдова Андрея Синявского, Мария Васильевна Розанова: «В Высоцком он услышал народный голос, который волновал его, интересовал и не давал покоя. Именно поэтому из всего Высоцкого сердечно ему были ближе всего блатные песни… В его песнях удивительным образом проявилась общая приблатнённость нашего бытия. Мы все выросли в этой среде. И в этом смысле он – певец нашей страны, нашей эпохи, нашего мира».
Однако место, занятое в русской культуре Высоцким, даже не снилось выдающимся представителям этого жанра – ни Аркадию Северному, ни Александру Новикову (очень разным артистам и авторам, которых мы берем для примера, чтобы подчеркнуть размах амплитуды). Поп-стилизаторов вроде Михаила Круга или группы «Лесоповал» в качестве значимой вехи и вовсе не стоит рассматривать в интересующем нас срезе.
Культурный феномен может нести черты субкультуры, но для него исключена жесткая привязка к ней. Применение отдельных характерных приемов, свойственных субкультуре уже за ее пределами – безусловно. Но опять же – не расчётливое инженерное применение, иначе получается стилизация и искусственность вопреки искусству.
В разных странах одновременно с Высоцким появились свои поющие звезды: Эдвард Стахура в Польше, Яромир Нохавица в Чехии, Адриано Челентано в Италии, «Каррач» Дегенхарт в Германии, Джо Дассен во Франции, в Англии – Джон Леннон и чуть позже, в Шотландии, Донован, Жак Брель и Серж Генсбур во Франции (ну, там и до них было, кого послушать), и конечно же – Боб Дилан.
По глубине влияния на культуру своей страны Высоцкого можно сравнить только со Стахурой, Ленноном и Диланом. Но только Дилану и ему удалось пронзить время в обратном направлении – их стали слушать представители старших поколений.
Дилану удалось сделать гораздо больше, его Нобелевская премия совершенно заслужена – хотя его самого очень удивила. И дело не в том, что Дилан более талантлив, более понятен, более универсален. Неизвестно, что бы стало с Диланом, если бы ему мешали так, как Высоцкому.
Недавно прочитал в очередной публикации в клубе интеллектуалов Яндекс-дзен: «Опять россказни про то, как зажимали Высоцкого, ну сколько можно нести эту чушь. Концерты по стране, пластинки и фильмы, выезды за рубеж в кап. страны, иномарки, жена-иностранка. Кому из актеров в СССР это разрешали, кроме Высоцкого? Я думаю, не многим, просто саморазрушение, как и у многих гениальных творцов, было его источником вдохновения, только разрывая себя, он мог писать так, как умел только он».
Когда некая старушка подложила дров в костер Яна Гуса, он без злобы произнес свои последние слова – «Sancta simplicissita». Святая простота! Сколько Высоцкому не дали сыграть в кино, сколько раз запрещали концерты, как ни одной его пластинки при жизни на родине не выпустили, как не давали даже вступить в убогий советский Союз писателей, где всякой бездари было процентов девяносто. А ведь все это терзало его почище запоев. Дилан тоже трезвенником не был – а до сих пор жив и даже, говорят, выступает. Никто не мог ему помешать в главном – заниматься своим делом. Впрочем, этого не понять тому, кто о свободе только читал или что-то слышал. Таким людям иномарки и поездки в «кап. страну» хватает вполне, а жена-иностранка заменяет звезду Героя социалистического труда…
Тексты Дилана ни разу не попытались «улучшить» мудрые коллеги из худсовета. Ему на поездки не выдавали разрешения комиссии. И тираж его пластинок не утверждали чиновники от грамзаписи.
А саморазрушение – ну, со всеми бывает. Джиму Моррисону не повезло. Мик Джаггер пляшет до сих пор. Леннона убили – Маккартни до сих пор концертирует. Дассен умер через месяц после Высоцкого – а Челентано юбилей, такой же, как у Высоцкого, отметил, лично на нем присутствуя. Не добавляй Высоцкому стрессов власть и коллеги – глядишь, и он бы прожил подольше.
Игорь Миронович Губерман рассказывал, что, когда подал заявление о приеме в Союз писателей, строгий человек сказал ему:
– Мы можем принять в секцию поэзии только того, у кого есть строчки, известные каждому в стране! У вас есть такие?
Губерман радостно ответил – есть! И прочитал стишок, действительно известный каждому, и вы без труда можете точно узнать – какой именно. Его, разумеется, не приняли.
Но по этой логике Высоцкого нужно было сразу делать председателем секции поэзии. Его песни знали все без исключений.
Видимо, требовалось все же нечто другое.
Для этого нужны были книги и пластинки, в процесс их записи никто не должен был вмешиваться. И книги эти – перевели бы. Пластинки выпустили бы и в других странах. И лукавые слова «так у него же были там и концерты, и пластинки» – чушь. Все на коленке, все срочно, все полуподпольно, где-то без визы, где-то без разрешения, там по знакомству, там – вопреки всему.
Смог бы он стать звездой первой величины? Ленноном точно не стал бы. Но то, что во Франции он стал бы не менее популярен, чем Генсбур, – да запросто. И в англоязычных странах нашлась бы для него ниша. Фольклор разных народов формируется по одним законам, и если он не впитан и не воспитан – а воспринят и стал частью творческой личности человека – это открывает ему и совсем далекие, иноязычные аудитории. Нужны были здоровье и время. Ни того, ни другого ему, увы, не хватило.