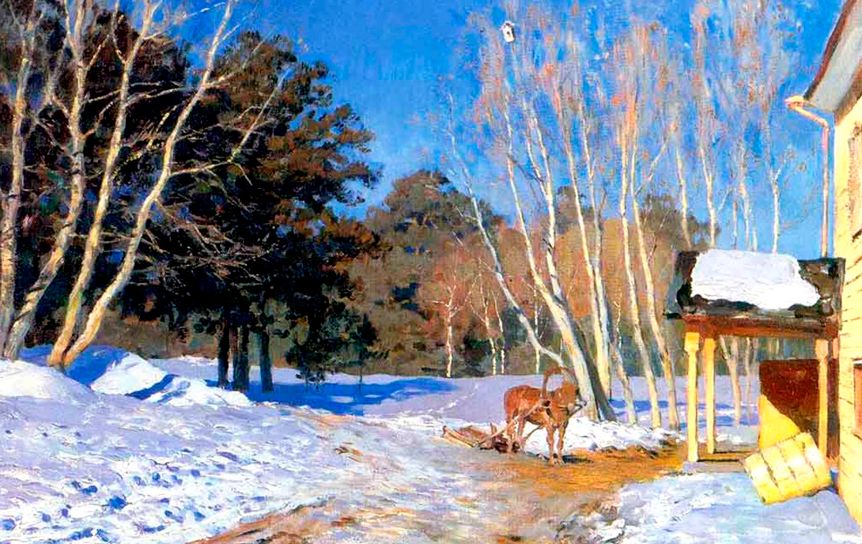Текст: Андрей Мягков
Премия "Лицей" в этом сезоне вот-вот завершит прием работ — и чтобы доказать молодым писателям, что после награждения на Красной площади литературная жизнь все-таки есть, самое время проведать уже состоявшихся победителей. Взять хотя бы серебряных призеров: награжденный в 2018 году Игорь Савельев вместе с еще одним фигурантом лицеевского шорта Булатом Хановым недавно представлял отечество на Днях русской книги в Париже, а у финишировавшего в прошлом году вторым Никиты Немцева буквально на днях дописался роман. "Сейчас я в четвертый раз пытаюсь написать роман, переделываю, все это с 2017 года тянется», — признавался Никита в интервью, и вот мы наконец можем посмотреть, что у него получилось.
Получилось довольно близко к сборнику рассказов, за который Немцева и наградили — ничего лучше слова "озорная" для анкетирования его прозы до сих пор не придумать; это все такой же непосредственный, раздражающе обаятельный текст, который так и норовит сорваться в гопак, а то и приклеить читателю на спину записку "пни меня". Ну а если в аналогиях, то
"Русский бунт" — это абсолютно безобидный Тарантино, поставленный в ТЮЗе, в пространство которого поселили "русских мальчиков" Достоевского, а те в свою очередь иногда разыгрывают сценки в абсурдистском духе какого-нибудь Виана среди густой московской топонимики.
Сложно, наверное, понять, комплимент это или нет - но и во время чтения объяснить себе, хорошо это или плохо, тоже, в общем-то, непросто. Придраться есть к чему: и финал как будто недопридуман (неспроста там нет точки), и спорадические всполохи из университетского курса философии лишь нагоняют зевоту; да и в целом история о двух друзьях-филологах, одном потешном анархисте (который никакой не анархист) и бунте (в основном метафизическом) в итоге окажется скорее в меру несерьезной историей любви и курьезов, что, с одной стороны, не дает роману утонуть в размышлизмах "русских мальчиков", а с другой - делает его до обидного безобидным. И хотя ловить жизнь в литературный сачок автору удается здорово, иногда текст выглядит настолько разболтанным, что не совсем понятно, зачем его читать.
Но при этом, поди ты, читаешь. Потому что
у Немцева есть редкое качество: он чувствует себя в своем тексте как дома и не предполагает между собой, текстом и читателем никаких условностей и дистанций.
Это проявляется на всех уровнях - от вольнодумного, совершенно джазового темпа и свойской, по-хорошему бестактной лексики до привычки словно бы извне, непосредственно врываясь в текст, уточнять в скобках только что написанное. В итоге роман частенько удивляет: достаточно сказать, что здесь есть несколько страниц, написанных с помощью тире. Но и то, что написано буквами, чаще всего написано чудно (оба ударения верны): "любил дикий бирюзовый цвет её волос (с приливами, отливами, аквалангистами, на дне этого моря чего-то ищущими)"; "Расчихавшиеся фонари укутались в пластиковые шарфы"; "Нева ёжится, колышется, ленится просыпаться; вместо неба — живот белой кошки (нежный и с розовым)"... Хотя чего я тут распинаюсь: ниже вы обнаружите кусочек прозы Немцева во всей ее обаятельной противоречивости и сами что-нибудь решите.
Никита Немцев. Русский бунт — Издательские решения (Ridero), 2020
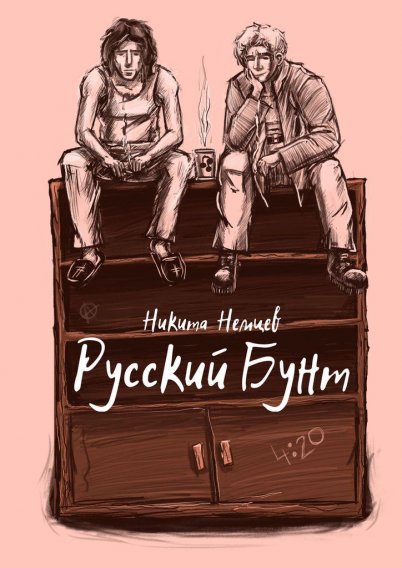
Без аджики Шелобей делался зол как нигилист. Говна из-под колена! И что теперь на бутерброд мазать, ну?
Тягомотина жизни опять наступала на пятки, сна в голове не осталось – как ни тряси. А как спалось! Шелобей был вошью, пересекавшей океан в подмышке рыжего кота, которого из жалости почтенный старец боцман… Раскладушка прорвалась с краю и ужалила Шелобея в бок железной хреновиной.
Нищий холодильник, немощная раскладушка и стол, о который постоянно бьётся голова, – как ни проснись. Каждый день состоит из солнца, какого-то количества часов, нескольких простых и доступных вещей – и какой-нибудь одной недосягаемой. Для Шелобея уже несколько недель недосягаема была Лида. Проснулся – сразу к ноутбуку. «Доброе утро!» – написал (а она в сети). Выпил воды из-под крана (стаканы только гранёные), добавил: «Как ты?». Полежал, послушал, как жалобно скребутся лопатами дворники под окном (печальные вестники утра). Скинул Лиде песенку группы «Ноль». Послушал эту песенку сам… Две-три фотографии лайкнул.
Ни фига.
А вообще-то у него билеты в «Октябрь» на премьеру Триера сегодня!
В уме – арестанты ходили по кругу. Сами собой – нахально, самочинно – вспоминались секунды вечности у Лиды на груди: лежать там и слушать: бум, бум. А потом поднять голову, поймать её взгляд – и увидеть, что между вами километры. Нет, это дело надо закурить. Но не на кухне, а то опять придётся проветривать и сидеть в пальто, очужело, – как на вокзале. И так ребята жаловались вчера, спину им фуфлыжную, видите ли, продувает. А вот поспали бы на раскладушке! Хорошо, что есть подъезд.
На лестничную клетку какой-то умник выволок шкаф: надеялся выбросить, а потом, видно, забил. Потихоньку на свободных полках появилась какая-то корзина, стопка тяжеленных стеклопакетов, произведённая в пепельницы банка из-под оливок, надпись 4:20 маркером и ненужные книжки. Шелобей оценил улыбку случая и повадился на этом шкафу курить (так интереснее).
Вдруг, он остановился – (дверь хлопнула громко) – на шкафу сидел и курил белобрысый паренёк. На нём были говнодавы, джинсы, прохудившееся пальтецо – и больше ничего (впалая грудь белела). Сам он был тонкий, почти прозрачный лицом: лихой самонадеянный нос, пушок над губой и невозможно раскидистые уши. Походил он не на мальчика даже, а на некрасивую девочку (впрочем, и в качестве мальчика он был некрасив). Курил неумело, с каким-то апломбом, и беззаботно разбалтывал ногами.
– Толя Дёрнов, – представился он, важно прерывая качание ног.
Шелобей стал у занятого места. Незакуренная сигарета как-то сама выскользнула изо рта в пальцы:
– А я Шелобей.
– Я знаю. Так-то я к тебе приехал.
– Ко мне? – Шелобей прищурился недоумённо.
– Тебе Жека разве не писал? Дела-а! Я-то думал, будет где вписаться.
Сумрачно и неправдоподобно, Шелобей припомнил Жеку из Красноярска. Кажется, что-то такое он писал – с месяц назад.
– А сам Жека где? – Шелобей сунул сигарету за ухо.
– Жека уже в Гамбурге. А ты сам не переживай, я сосед ненапряжный, семь дней могу вообще не есть. – Дёрнов размахивал рукой с окурком. – Чего стоишь? Тут места – завались.
Не сразу и кряхтя, но Шелобей вскарабкался на шкаф (тот заходил ходуном). Плечом Шелобей упёрся прямо в ворсистое пальто Дёрнова.
– Хорошее место! – заметил Толя. – Чёткое.
Шелобей улыбнулся вяло, но всё-таки спросил:
– Тебе лет-то сколько?
– Семнадцать с половиной. В мае восемнадцать будет.
– Ты… в школе же учишься, да? На каникулы приехал?
– Нет, конечно! – там зона сплошная. Я заманался, и ушёл.
– А родители?
– У нас разные взгляды на жизнь, я свалил от них. Вообще, я анархист. – Он кашлянул. – Ну. Немножко.
Шелобей рассмеялся, – но тут же сделался очень серьёзный:
– А основная деятельность?
– Бунт.
Толя Дёрнов спрыгнул на бетон подъезда и заходил (шкаф опять закачало, Шелобею пришлось упереть ладонь в потолок).
– Жить в мире без свободы и есть бунт. – Толя потянулся.
– Ну, Камю философ-то фиговый, – улыбнулся Шелобей, выуживая сигарету из-за уха.
– Я не читал. А надо? Да ты кури-кури, – расхаживал Дёрнов. – А ты, кажись, и не хочешь.
– Вообще-то я покурить сюда шёл.
– А слабо не курить? Два года не курить слабо?
– Не слабо.
– Ну-ну.
С уверенным видом Шелобей дел сигарету за ухо. Дёрнов расхаживал, заложив руки за спину, и насвистывал «Марсельезу», Шелобей внимательно оглядывал зелёные дурнотные стены, потолок, сходящийся, как будто гроб и насвистывающего Дёрнова. Так длилось минуту или две. Шелобей вдруг почувствовал себя ужасным дураком и закурил.
– А-ха! Попался! – Дёрнов рассмеялся (смех у него был противный и визгливый: как-то «хя-хя-хя-хя»). – «Как убивали, так и будут убивать!»
– Это откуда?
– Летов, – ответил он, ни секунды не удивляясь невежеству Шелобея.
А тот затянулся: сигарета млела и трещала.
– Не люблю Летова, – сказал Шелобей. – Как музыкант, Лёня Фёдоров гораздо интереснее.
– А я прусь нещадно: потрясает до глубины души и ваще. Мне кажется, это Достоевский в русском роке.
– Пф. Достоевский… – пробормотал Шелобей (и снова почувствовал, как внутри арестанты заходили по кругу.)
Они молчали. Дым расползался клубами и кольцами: он растекался и своими ужиками норовил залезть куда-то в уши. Дёрнов сел на ступеньку.
– Делай, что хочешь, – сказал он, щеками уместившись на кулачках.
– Чего?
– Делай, что хочешь, – повторил Толя и улыбнулся зубасто.
– Типа императив?
– Ага.
– Так просто?
– Да ни фига! – Дёрнов встал и взялся ходить опять, дирижируя мысли указательным пальчиком. – Засада же в чём главная? На самом деле – не так много ты и хочешь. Люди почему убивают и грабят? Потому что думают, что хотят убить и ограбить. А они не хотят. Хочется же того, чего нет… Вот эту сигарету, – Шелобей зажёг уже вторую, – вот эту сигарету ты разве хочешь курить?
– Не очень.
– Ну и вот.
Помолчали.
– То есть, надо сесть и подумать, чего я действительно хочу? – спросил Шелобей.
– Если хочешь, – ответил Дёрнов.
Тут Шелобей не удержался и опять рассмеялся, – но тут же раскашлялся. Он затушил бычок о стену (оставив угрюмый чёрный ожог) и аккуратно спустился со шкафа (Толя оказался ему по плечо).
– На сколько, говоришь, тебя вписать? – спросил он Дёрнова.
– Недельки на две. Освоюсь – так и свалю.
Они прошли в квартиру, на кухню (Дёрнов хлопнул дверью так, что стекло грохнуло). Шелобей бросил пельмени в кастрюлю и поставил чайник (а Жеке – потом напишет). Толя Дёрнов, плутовато поджав губы, оглядывал кухню, как бы подумывая, чего бы здесь умыкнуть (хотя умыкать-то было нечего – разве гитару в пылящемся чехле).
– А это что? – спросил Толя развязно, хватая картофелину в пиалочке.
– Да так… – Шелобей улыбнулся. – Положи на место, пожалуйста. – Он уселся на табурет. – Ты чего в Москве-то делать собираешься?
– Ну как… Жить.
– И нести анархию в массы?
– Ну не, это старьё. Мы отпечатали несколько прокламаций в Тбилиси – так я их сжёг. Сайт ещё делать пробовали, но его ж раскручивать надо, опять капитализм, невидимая рука – и ну нахер. Я от армии скрываюсь.
Толя Дёрнов плюхнулся на раскладушку.
– Погодь. – Шелобей пытался собрать мысли в кучу. – Прокламации? Армия? Тебе же семнадцать.
– Ну так заранее. Не хочу в шкафу ныкаться.
Чайник щёлкнул: престарело эхнув, Шелобей разлил чай. Дёрнов (всё не снимая пальто) держал чашку как туркменский хан:
– А спать я буду на подоконнике. Там батарея, тепло. Ты мне подушку дай только, а я пальтом укроюсь.
Неохотно, Шелобей сходил в комнату за подушкой.
– На. – Он протянул подушку и футболку. – А то чего как бомж.
– Я не бомж, я закаляюсь.
Сели пить чай. Хлебали шумно.
– Я, знаешь, думаю, от амбиций это всё. – Отставив чашку, Дёрнов отвёл руки за голову и раскинул локти доверчиво.
– Что – всё?
– Тоска по недостижимому. Все ж рокерами, миллионерам, нобелевскими лауреатами быть хотят…
– Ну не скажи, – Шелобей ухмыльнулся криво. – Не все.
– Ты сам-то кем хочешь быть?
– Никем.
– В смысле?
– Ну. Ты говоришь, все хотят быть кем-то. А я, значит, буду никем.
Дёрнов подскочил даже:
– Вот это я понимаю, ужас и моральный террор! И как? Получается?
– Да ни хера.
Не без досады, Дёрнов улёгся опять.
– А вот как думаешь, – спросил Толя у потолка, – кто первый панк был?
– Арнольд Шёнберг? – предположил Шелобей.
– Кто это? – Толя нащурился.
– Композитор-авангардист. В двадцатом веке жил.
– Хя-хя-хя-хя-хя! Ну ты дал! Нет, первый панк был Христос. Сам подумай: «Не мир я вам принёс, но меч»; «Царство Небесное силой берётся». Умер молодым. Ну, относительно… Кто-нибудь вообще видел, чтобы он мылся?
– Как минимум, когда его Иоанн Предтеча крестил.
– Ну так один раз – не считово. Вот ты Летова не любишь, говоришь. А ты «Сто лет одиночества» слушал?
– Фрагментами.
– Значит, не слушал.
Почти два с половиной часа они слушали этот альбом (Дёрнов постоянно останавливал и давал обстоятельнейший комментарий). Шелобей не очень себе в этом признавался, но две песни («Вечная весна» и «Свобода») ему даже понравились (в «Весне» ещё перкуссия такая странная, а перебор – как будто вечный поезд в никуда). Проснувшиеся ребята заходили на кухню и уходили, а Толя не унимался: разговоры о том, что в Америке нет кинематографа, проповеди о государственном устройстве, лекции про русский рэп и новый ренессанс… Вечер ухнул за окном, – а Шелобей хлебал холодный чай и кумекал, что же ему делать с этим Дёрновым теперь. План отомстить Лидочке родился внезапно.
– Слушай, Толь, – сказал Шелобей. – А на новый фильм Триера не хочешь сходить?
– Он немец? Погнали. Люблю немцев – они шарят.
Собрались быстренько. Шелобей вручил Толе ключ и нахлобучил на него свою шапку. Шесть часов? Отлично – как раз успеют.
Шелобей вообще в Перово живёт. Места отрадные, милые, добродушные, – а впрочем, и стрёмные (и очень советские). Возле Шелобеева подъезда дети вылепили снежных бегемотиков – три штуки: задумчивой стайкой они куда-то шли – по всей видимости, на юг. Но вероломный кто-то (возможно, собака) помочился на них – так что теперь у подъезда ютились три обоссанных бегемотика.
– Нам куда? – спросил Дёрнов, вжимаясь в воротник.
– Вон. Туда. – Шелобей указал.
Они шли глухими дворами, облезлыми дорогами и серыми, натоптанными, скользкими тропинками
– Индустриальненько, – заметил Дёрнов.
Шелобей многозначительно застегнул последнюю пуговицу и нахохлился.
Вьюга пугающе стлалась по безлюдному асфальту: ноги шумно шаркали, готовые в ней утонуть. Ветер трудился весь день: сугробы у него получались с точёными скульптурными краями. Верёвочки вьюги – выписывали туманные узоры.
Ночь уже набросила своё эфемерное покрывало на Перово, когда они подошли к метро. Высился безликий дом с промазавшей надписью: «Новогиреево» – и красная буковка «М» реяла над спуском к станции.
Невдалеке от гранитных боков перехода стояла женщина в розовом пуховике, с белой лошадью (она была уютно покрыта зелёной попоной), и завывала – в тон ветру:
– Люди добрые! Помогите на корм! Сколь не жалко!
Шелобей уже спускался по ступенькам, когда заметил, что Дёрнова нет рядом. Он обернулся – и увидел: Дёрнов взбирается на коня.
– Толя, блин! – Шелобей побежал вверх по ступенькам.
Женщина успокаивающими пассами дала понять Шелобею, что всё нормально, а всё же – цепко держалась за удила. С грацией королевича, Толя расхаживал неспешным аллюром вокруг них, как будто на ежедневной прогулке. Какой-то ребёнок захлопал в ладоши и стал просить маму тоже покататься. Но стоило хозяйке лошади зазеваться на Шелобея (объяснявшего, что они опаздывают в кино), как Толя своими говнодавами сжал белые бока – и унёсся галопом в переулки Перово.
Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сначала поднять брови. Потом ошалеть. Медленно втянуть воздух. И – тупо смотреть на удаляющийся лошадиный круп (у её копыт был какой-то босой звук). Ну теперь можно и вдогон.
Они побежали. Женщина поскользнулась и упала, Шелобей вежливо её поднял, и побежал опять. Она ещё раз упала, Шелобей попробовал её поднять, но тут же бросил – и побежал дальше, дальше, уже не оглядываясь.
За поворотом на Металлургов дыхание кончилось. Безнадёжно отставший Шелобей бухнулся в сугроб и стал искать зажигалку: сигарету он курил напополам с ветром. Хозяйка тоже доползла: она села в сугроб и разревелась. Она говорила всё, что полагается говорить женщине, чью лошадь украли. Он говорил всё, что полагается говорить парню, чей не-друг, не-приятель, а вообще непонятно кто – украл лошадь. Но не успела сигарета закончиться, лошадь с Толей обернулись: Толя спрыгнул, залихватски протянул руку женщине, поднял её из сугроба и вручил повода, как нечто крайне важное. Женщина с лошадью шмыгнула и побрела обратно к метро.
– Ты где езде выучился? – Шелобей затушил сигарету в снег.
– Да в Сванетии когда жил. Ребята научили.
Дёрнов громко харкнул прямо над собой и отбежал. Ветер снёс харчок Шелобею на плечо.
– Извини, – сказал Толя.
– Проехали. – Шелобей попытался смахнуть харчок, но только размазал. – У тебя телефон-то есть?
– Зачем?
– Чтоб на связи быть. Ну, вдруг тебе опять приспичит лошадь угнать?
– На связи!.. Ты не чувствуешь грохота цепей в этом слове?
Чтобы не встречать снова ту бедную женщину, они пошли к «Шоссе Энтузиастов». Вот тут, вот тут, не поскользнись! Немножко дворами, немножко промзонами, – но ничего, Шелобей-то район знает.
Три шатающихся парубка вывалились из подворотни (пятница, вечер). Шелобей взял Дёрнова за плечо и попытался их обойти, но те упорно (и как-то свирепо) лезли на их траекторию.
Все пятеро встали – вокруг никого. Тишина.
Бездомный кот проорал противно: М-Я-Я-Я-В!
– Куда идём? – спросил гротескный м**** [нехороший человек] в шапке с помпоном.
– Домой, – промямлил Шелобей.
– Вы с какого района?
– С Перово, мы местные, – отвечал Шелобей.
– Чё-то я вас не помню. – М**** [нехороший человек] улыбнулся.
Стояли. Молчали. Снег валился.
Кот продолжал орать как зарезанный.
Человек с помпоном вытащил нож и показал его – будто фигу.
– Давайте чё есть, – сказал он.
– С какой это стати? – взвизгнул Дёрнов. Шелобей шикнул на него.
– Налог, ё***** [черт возьми]. Тут типа таможни, хэ-хэ-хэ!
Троица рассмеялась. Дёрнов сперва тоже засмеялся, но понял, что зря. Шелобей полез усталой рукой в карман, искать кошелёк. Но тут – с дикой и ни на что не похожей решимостью – Дёрнов схватился за нож: за самое его лезвие. М**** [нехороший человек] с помпоном оторопел и решительно потерял представление о том, как ему быть. Он то пытался отобрать нож, то пытался отойти, но Дёрнов не отпускал и железно смотрел прямо в глаза. Тихая кровь спокойно капала на снег и сворачивалась клочьями.
– Я же зарежу… – тихо, почти лепетал бандит.
– Мне насрать. Я анархист. – Дёрнов не отпускал.
Сила его неодолимого взгляда и запас крови в организме сделали своё дело. Человек с помпоном отпустил нож, все трое заизвинялись, почти тут же с Толей побратались и предложили розовый носовой платок. Немного нервно, человек с помпоном (Миша) рассказал, как недавно он нашёл травмат, а мама у него этот травмат отобрала. Кончилось тем, что они все пошли к Мише домой, где Дёрнов городил очередной вздор, а Миша слушал Eagles и плакал. Это потом уже выяснилось, что Шелобей всё перепутал, а Триер только в следующую пятницу, так что билеты ещё в силе, если хочешь – вместе пойдём.
Косматые хлопья бешено крутились в воздухе и мокро оседали на без того озябший нос – холодно было и снутри, и снаружи. Как два дурака, мы с Шелобеем сидели на лавочке невдалеке от станции метро «Университет» и пили ледяное пиво, пока Шелобей рассказывал мне о Толе Дёрнове – хотя сейчас он вообще-то поссать отошёл.
– И где этот твой Толя? – спросил я, растирая руки, синий губами (мы выпили по две бутылки; это была тупая идея).
– Да он не отчитывается. – Шелобей уже вернулся и стоял, застёгивая ремень. – Ушёл утром, сказал по делам. Ну я вникать не стал.
– Погнали, что ли? – предложил я, кивнув на пустые бутылки.
Он кивнул тоже, и мы замёрзшими шагами двинулись вперёд – к Лидиному дню рождения. Возле её подъезда кто-то тоже слепил бегемотиков (хотя это были скорее собаки): их пока не успели обоссать, так что они радовали гла… Погодите… Шелобей, ну ё-моё!