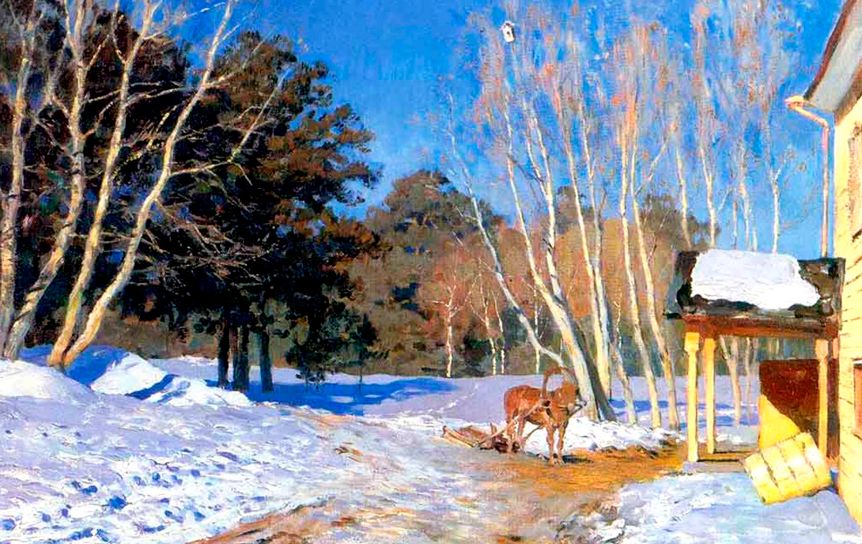Интервью: Дмитрий Шеваров
Новелла и есть свершившееся неслыханное событие.
Гете в разговоре с Эккерманом,
25 января 1827 г.
Новелла Матвеева. Звук этого имени как прибой касается нашего уха. Судьба ее поэзии и музыки в чем-то сходна с морской волной — то приливающей, то убегающей.
В 1960-е был прилив, само время было пронизано мелодикой матвеевских песен, а в конце 70-х вдруг начался отлив. В 90-е годы поэзия вовсе схлынула, обнажив замусоренное и вязкое дно, чуть прикрытое рекламными растяжками. Негде человеку остаться наедине с самим собой, а он уже и не хочет. Он боится тишины и, почувствовав только ее возможность, врубает телевизор, радио, надевает наушники, чтобы прокачать сквозь себя порцию музыкальных файлов.
И все-таки - боюсь обмануться! — но обозначился слабый прилив. Впрочем, мне трудно об этом судить, поскольку песни и стихи Новеллы Матвеевой вот уже полвека остаются в нашем доме — на пластинках, кассетах, дисках, в книгах, в старых газетных вырезках со стихами…
Помните, как славно бежалось по тропинке под Новеллу, под ее «Какой большой ветер…» или «Кораблик». Как мчалось на велосипеде под «Ах, как долго, долго едем! Как трудна в горах дорога!..» Как азартно карабкалось на забор под матвеевскую песню альпинистов: «Нас ошпаривала справа // Вулканическая лава, // Нас окатывало слева // Океана колесо…» А как легко засыпалось под напеваемое мамой-Золушкой: «Я раздуваю пушинку огня, - // Пламя бушует, и варятся щи…»
С тех пор как в 1966 году вышла первая пластинка Матвеевой, эти песни жили почти в каждой семье. Не напоказ жили, а как-то притаившись среди других пластинок.
Песни Матвеевой никогда не перебивали, не заглушали других песен. Они терпеливо ждали тех трех минут тишины, о которых так пронзительно спел Визбор в 1965-м:
- По судну «Кострома» стучит вода,
- В сетях антенн качается звезда,
- А мы стоим и курим — мы должны
- Услышать три минуты тишины…
Выросшие в коммуналках под черными тарелками репродукторов дети войны были гениально восприимчивы к умной, влюбчивой тишине, к тонкой мелодии полуслов-полумузыки. Они, в детстве безотцовщина и шантрапа, в юности — бродяги за туманом, чуть повзрослев, искали кров, дом, где можно было бы укрыться от партийных тезисов и пятилеток в три года.
Те, кому посчастливилось получить тогда квартиру в панельных пятиэтажках, ценили его так, как это трудно сейчас представить. Магнитофонные поэты с гитарами были созвучны этому счастью, этой вдруг согревшейся душе, этому обретенному в хрущевках дому, малости кухонь и открытости дверей.
А мы, дети детей войны, родившиеся и подраставшие уже на этих счастливых квадратных метрах, жались к теплым бокам толстого и тяжеленного магнитофона «Комета» (или «Днепр») и зачарованно глядели, как крутится пленка с «Синим троллейбусом» Булата, «Корабликом» Матвеевой, «Серегой Саниным» Визбора.
Напевали и подпевали: «Ищи меня сегодня среди морских дорог!..» и «Не закрывайте вашу дверь…», про «Миссури-Миссури! О, Миссури, расчудесный штат…» и «Ехал солдат лесом, ехал целый день…» Потом предавались первой задумчивости под «Ты у меня одна, // Cловно в ночи луна…». Лыжи в школьных походах непременно ставили (вслед за Визбором) у печки. Это не шло на пользу лыжам, но так выходило самой собой, так рифмовалась жизнь и поэзия. У этой же турбазовской печки девочки грустили о чем-то еще, нам непонятном, под матвеевскую песенку «про гвоздик». «Любви моей ты боялся зря, // Не так я страшно люблю!..»
Окуджава, Матвеева, Визбор — не небожители, не классики, они жили где-то рядом, в наших дворах и переулочках, они бродили по тем же скверам и бульварам, и ехали на том же трамвае, и вдыхали ту же осень.
- Кружатся листья,
- Кружатся в лад снежинки.
- Осень пришла, - темно и светло в лесах.
- Светятся в листьях розовые прожилки,
- Словно в бессонных
- И утомленных глазах…
Так и слышится мне та старенькая пленка с коротким шелестом аплодисментов после каждой песни, и как Новелла объявляет: «Песнь о далекой дали» — и все затихают.
- Где-то
- В далеких краях
- Есть одинокий маяк…
А потом была затертая пластинка, купленная уже неизвестно кем за «90 коп.». Она ходила из класса в класс, со двора во двор, из одной комнаты общежития в другую, и самой затертой оказывалась «Девушка из харчевни», все та же песенка «про гвоздик». На ней иголка подпрыгивала, будто воображая себя гвоздиком, и возвращалась в начало песни. «Любви моей… любви моей… любви моей…» Тут пластинку поправляли, и она, слегка колеблясь, все-таки крутилась дальше. «Мне было довольно видеть тебя, // Встречать улыбку твою…»
А конверт от пластинки крутился в руках. Он линял, выгорал и мялся, но от этого фотография Новеллы на обложке (в косыночке, вполоборота) становилась только милей и родней. Вот только почти нечитаемым становился и без того мелкий текст аннотации на обратной стороне: «Новелла Матвеева прекрасно исполняет свои стихи и песни в собственном же сопровождении на гитаре…» Под статьей была подпись «В. Зайцева» и ссылка на «Строительную газету» от 10 марта 1971 года.
Но это было потом, а на распашке оттепели Новеллу Матвееву полосами печатала «Комсомолка». Первая подборка ее стихотворений называлась «Где никогда не лечь музейной пыли…» и начиналась словами: «Стихи, которые мы сегодня печатаем, принадлежат перу молодой поэтессы… Новелле не пришлось много учиться: она долго и тяжело болела. Но она много читала, много слушала, много думала…»
В той первой публикации было два стихотворения о художниках — одно о Рубенсе («Живопись веселого рассвета, // Рубенса цветущие холсты…), другое о Рембрандте («Он умер в Голландии, // холодом моря повитой…»
С воспоминания об этом и началась наша беседа.
У вас в стихах живет много художников — Рембрандт, Рубенс, Брейгель… Можно подумать, что вы выросли в семье художника или рядом с картинной галереей.
Новелла Матвеева: Да, художники ходили к нам в гости живьем. Были такие братья Китайка — Константин и Михаил, живописцы. У мамы всегда было все очень интересно расставлено, и, я помню, дядя Костя восхищался: у вас, куда ни глянь, везде натюрморты! Он сам приносил цветы, мольберт, раскладывал краски и работал. Писал не только натюрморты, но и мою маму, и отца. Это был замечательный человек, в то время — совсем молодой художник. А так как я еще танцевала и вообще почему-то подавала родителям самые разнообразные надежды, они часто совещались, куда меня отдать.
Мама очень хотела отдать меня в балетную школу, и вот дядя Костя говорил: «Ни в коем случае, ее там испортят, в актерской среде такие нравы!» Он ратовал за то, чтобы меня отдать в художественное училище. Никто ведь не знал, что будет война и все пойдет кувырком.
Получается, вы могли быть художницей, но этому помешала война?
Новелла Матвеева: Да, война… Те довоенные работы, которые хвалил дядя Костя, потерялись. Очень многое пропало. Было много иллюстраций к прочитанному: к Шарлю Перро и Арсеньеву, Гейне и Гете, Алексею Толстому и Гюго, Метерлинку и Ростану, вплоть до Шекспира… Особенно мне жаль своего рисунка «Жасмин», ведь я была сызмала помешана на этом растении.
А что там было на рисунке?
Новелла Матвеева: Там улыбающийся человечек-Жасмин стоял около ветхой стены, рядом был настоящий жасминовый куст, сквозь который просвечивали лунные участки неба со звездами. До сих пор мне кажется, что на этом рисунке больше всего мне удался лунный свет. Говорю это с запоздалой, а потому, наверное, извинительной гордостью…
А вы помните дни, когда вы рисовали эти рисунки?
Новелла Матвеева: Кажется, это была зима. Выводя ту или иную карандашную линию, я напевала что-то про себя. Рисунки-то и являлись, наверное, моими первыми песнями. И это не были песни, где-либо слышанные мной, а было это, подозреваю, какое-то уже личное сочинительство…
И песни пришли на смену рисункам?
Новелла Матвеева: Нет, я бросила рисовать, потому что понимающих меня художников мне больше не встречалось. Хотя время от времени родители возобновляли попытки проторить моим рисункам дорогу. Как-то одна дама сказала мне, что у меня свет падает не оттуда, и это замечание навсегда убило во мне рисовальщика.
Потом прошло много лет, я вышла замуж за поэта Ивана Семеновича Киуру, и однажды он обронил: «Свет падает, откуда хочет». «Ой! Кто это сказал?» - встрепенулась я. «Это сказал Гойя», - ответил он.
Я шел к вам сейчас с Пушкинской площади, постоял там у Александра Сергеевича и вдруг, как в первый раз, увидел строки, последними отлитые на пьедестале: «…и милость к падшим призывал». И почему-то подумалось: а любезно ли сейчас это народу — пушкинская доброта, милость, милосердие… Кажется, этого уже никто и не ждет ни от Пушкина, ни от литературы вообще.
Новелла Матвеева: Так ведь для этого надо, чтобы народ был. А ведь его почти перебили — где в войне, где в перестройках, где в перестрелках. Очень мало его осталось. У нас если где в толпе увидят кого-то, похожего на человека из народа, его могут и оскорбить, и посмеяться над ним, бомжом назовут. На работу таких не берут, а если берут, то не платят. У нас сейчас даже писатели могут написать об этих обездоленных людях презрительно. Такого никогда в нашей словесности не было.
Традиционную для русской литературы ноту заступничества сейчас трудно найти, ее стали будто стыдиться. Может, оттого, что мы уже далеко не самый читающий народ в мире? Недавно по каналу «Культура» услышал: «Наконец-то чтение книг стало аристократическим занятием вроде верховой езды».
Новелла Матвеева: А где они увидели аристократию? В какую лупу? Да подлинной аристократии не осталось, кажется, даже в Британии. Торгаши могут купить все, но как раз аристократизм они купить не могут. В девятнадцатом веке купцу не приходило в голову требовать себе дворянства, каким бы богатым он ни был. Купечество ценило свою сословность. А у нас нахапавший лавочник объявляется аристократом. Так не бывает. Это совмещение несовместимого. Но у нас сейчас время несовместимостей. И самое печальное — захапывается пространство. Вот у нас на Сходне теперь гулять негде. А когда-то мы с Иваном Семеновичем ходили там в «кругосветки»: через мост на другой берег, там тропинка, там поля, там была котловина с соснами над ней… Теперь там чей-то красно-кирпичный городок, все застроено частными владениями. Знаете, с бойницами такими, амбразурами. Я помню, когда все это еще строилось, по нашей дороге пробегали совершенно очумелые парни с красными рожами, щелкали автоматами на ходу. И приближаться теперь туда нельзя — спустят собак.
Вот много говорят о свободе, а мне это непонятно. О какой свободе? Для кого? Все это очень фальшиво. Свобода — это очень простые вещи.
Свобода пройти по тропинке в лес. Свобода от мата. Свобода не смотреть того, чего ты не хочешь смотреть…
Получается, что свобода для денег оказалась тюрьмой для души.
Новелла Матвеева: Я пытаюсь выразить эту мысль в стихах, но слишком волнуюсь, когда пишу…
Вы не боитесь, что стихи по конкретному поводу останутся в своем времени? Стоит ли поэту отзываться, к примеру, на Ирак…
Новелла Матвеева: Нет, это очень важно. Ирак, Афганистан, Сербия… Ведь уже приготовились забыть, что был Багдад — с минаретами, город «Тысяча и одной ночи», арабских сказок, удивительной архитектуры. Древнейшую культуру просто смели, превратили в пепел. И потом новые поколения спросят: а что такое Багдад, а что за Сербия…
Одно из первых ваших стихотворений, опубликованных в центральной прессе, было в защиту греческого коммуниста Манолиса Глезоса. Теперь молодым трудно объяснить такую «всемирную отзывчивость». Они справедливо могут сказать: чужим странам помогали, а свою потеряли.
Новелла Матвеева: Наверное, какая-то часть нашей помощи не была оправданной, была извращенной. Но для русского человека всегда было естественно помогать. От себя не убудет, говорили. Господь помогает тем, кто помогает другим. В советское время это называли пролетарской солидарностью, но суть не менялась. Возможно, при этом кто-то в верхах врал и поступал неискренне, но мы-то были искренни.
А вы встречали в жизни таких людей, которые не называли себя аристократами, но вы их такими чувствовали, видели...
Новелла Матвеева: Марина Цветаева как-то сказала: крестьянин, который любит свою кошку не за то, что она ловит мышей, уже аристократ. Замечательно, правда?
Бескорыстие и благородство — главное, что отличает аристократа. Вот дядя Костя Китайка был настоящий аристократ. Уж не знаю как по происхождению, а по поведению — точно. И дядя Миша, и вся их семья.
А Иван Семенович?
Новелла Матвеева: Я уж молчу об Иване Семеновиче - своих не хвалят… Спасибо, что вы о нем вспомнили. И он, и отец мой, и дедушка - они были во многих своих чертах и поступках настоящими донкихотами.
Чтобы любить и понимать вашу поэзию, надо тоже быть немножко Дон Кихотом. Вам еще встречаются такие читатели?
Новелла Матвеева: Как ни странно, иногда появляются люди, которые что-то читали мое, но это исключительные, конечно, случаи. Вообще я никогда конкретно своего читателя не представляла, никогда.
Но вы же много выступали, особенно в шестидесятые годы, и перед вами были живые лица, глаза…
Новелла Матвеева: Вот когда я училась на Высших литературных курсах, я пела для своих однокурсников, и это было для меня одно удовольствие. Мы жили тогда в общежитии… Женя Носов, Инна Варламова, Володя Сергеев… Сейчас всех не припомню. Это были чудесные люди, они приходили ко мне в комнату на каждую новую песню, слушали, записывали на магнитофон.
А для вас это было очень важно — увидеть, услышать реакцию на новую песню?
Новелла Матвеева: Очень, очень важно! Но потом, когда я стала выступать в больших аудиториях, лица как-то расплылись. Я и в зал-то боялась смотреть.
Вы всегда писали для многих людей или для немногих? А может быть, и для одного человека?
Новелла Матвеева: Сочинять — это, в какой-то степени значит мечтать. А для кого человек мечтает? Наверное, ни для кого. Другое дело, если эти мечтания потом и другим пригодятся.
Кто вам близок в современной культуре?
Новелла Матвеева: Я очень высоко ценю пианиста, дирижера и композитора Михаила Плетнева, он гениальный музыкант, а его замалчивают. Конечно, Татьяна Васильевна Доронина, замечательная актриса. Назову еще моего соседа по дому Владимира Николаевича Крупина — это очень совестливый человек и писатель.
Кстати, о соседях. Вот если представить мировую литературу как дом, то кого бы вы в таком доме хотели иметь в соседях?
Новелла Матвеева: Ну, это, боюсь, прозвучит нескромно. Тут ведь вопрос в том, захотят ли эти великие люди моего соседства… Конечно, назову Пушкина, Гоголя, Диккенса, Ростана, Достоевского… Вот к ним бы я ходила за солью и спичками. И они бы не отказали.
Вы говорите о них так, как будто они живы…
Новелла Матвеева: А для меня они живы. Они-то и живы.
У вас сохранилось чувство праздника — так, как это было в детстве?
Новелла Матвеева: Да, немножко бывает. Особенно когда снег и мороз, под Новый год.
Всем понятно для чего рождается врач, пирожник, сапожник… А вот для чего рождается поэт? Ведь жизнь и без него может быть вполне благополучной, во всяком случае внешне. Какой замысел у Господа, когда он посылает в мир поэта? Зачем? Для чего?
Новелла Матвеева: Наверное, все-таки для пробуждения совести в людях. Чтобы человек помнил о своем бессмертии, и о Нем, о Боге помышлял.
Поэты, если они настоящие поэты, - они где-то близки к священникам. Они торопят нас к добру.
Помню, у отца на столе, под стеклом, были разные изречения на маленьких листочках, и на одном из них я прочитала слова доктора Федора Петровича Гааза: «Спешите делать добро». Другие изречения не так запомнились, как это...
Задавая последний вопрос, я бестактно забыл о том, что Новелла Николаевна давным-давно ответила на вопрос о назначении поэтов — в песне «Поэты»:
- Когда потеряют значенье слова и предметы,
- На землю, для их обновленья, приходят поэты,
- Их тоска над разгадкою скверных, проклятых вопросов —
- Это каторжный труд суеверных старинных матросов,
- Спасающих старую шхуну Земли.
Свои дни рождения, даже юбилейные, она не выделяет из череды других дней и проводит его, как обычно, затворницей, в компании кошки Репки, старой пишущей машинки и радиоприемника. Над головой ее — старый абажур, а по стенам — книги, книги до самого потолка.
Из окна видны крыши соседних старых домов. Не черепичные, как в ее песнях, но тоже по-своему симпатичные. Особенно когда на них ложится первый снег.
Первый - он потому и тает, что его торопит второй. Вот этот второй снег, быть может, и ляжет. А третий наметет холмы у чердачных окон и нахлобучит шапки на давно не дымившие печные трубы.
А пока — черновик зимы.
Опубликовано в газете «1 сентября» в 2011 году. Предоставлено автором.