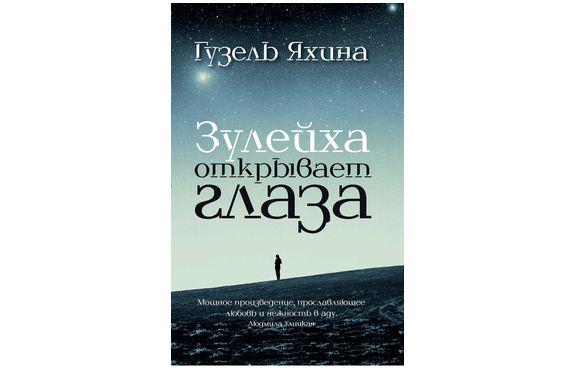В число 30 финалистов «Большой книги» попал дебютный роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». В каком-то смысле, он продолжает тему, заявленную прошлогодним победителем Захаром Прилепиным: мучительное внутреннее развитие молодого человека на фоне мучительных внешних обстоятельств. Только у Прилепина речь шла о московском интеллигенте, попавшем в Соловецкие лагеря, а у Яхиной о вещах еще более страшных (если здесь уместны сравнительные степени): о темной татарской крестьянке, раскулаченной в Сибирь - и действительно прошедшей там настоящую «перековку».«Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени, - пишет в предисловии к книге Людмила Улицкая. - Роман Гузель Яхиной - вне всякого сомнения — женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду…»
Мокрая курица
Зулейха открывает глаза. Темно, как в погребе. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жеребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окошком у изголовья – глухой стон январской метели. Но из щелей не дует – спасибо Муртазе, законопатил окна до холодов. Муртаза – хороший хозяин.
И хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче, перед рассветом – самый глубокий сон.
Пора. Аллах Всемогущий, дай исполнить задуманное – пусть никто не проснется.
Зулейха бесшумно спускает на пол одну босую ногу, вторую, опирается о печь и встает. За ночь та остыла, тепло ушло, холодный пол обжигает ступни. Обуться нельзя – бесшумно пройти в войлочных кота не получится, какая-нибудь половица да и скрипнет. Ничего, Зулейха потерпит. Держась рукой за шершавый бок печи, пробирается к выходу с женской половины. Здесь узко и тесно, но она помнит каждый угол, каждый уступ – полжизни скользит туда-сюда, как маятник, целыми днями: от котла – на мужскую половину с полными и горячими пиалами, с мужской половины – обратно с пустыми и холодными.
Сколько лет она замужем? Пятнадцать из своих тридцати? Это даже больше половины жизни, наверное. Нужно будет спросить у Муртазы, когда он будет в настроении, – пусть подсчитает.
Не запнуться о палас. Не удариться босой ногой о кованый сундук справа у стены. Перешагнуть скрипучую доску у изгиба печи. Беззвучно прошмыгнуть за ситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской... Вот уже и дверь недалеко.
Храп Муртазы ближе. Спи, спи ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа, но что поделаешь – приходится.
Теперь главное – не разбудить животных. Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильные холода Муртаза велит брать молодняк и птицу домой. Гуси не шевелятся, а жеребенок стукнул копытцем, встряхнул головой – проснулся, чертяка. Хороший будет конь, чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной морде: успокойся, свои. Тот благодарно пыхает ноздрями в ладонь – признал. Зулейха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубаху и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму войлоком, она тяжело подается, сквозь щель влетает колкое морозное облако. Делает шаг, переступая высокий порог, – не хватало еще наступить на него именно сейчас и потревожить злых духов, тьфу-тьфу! – и оказывается в сенях. Притворяет дверь, опирается о нее спиной.
Слава Аллаху, часть пути пройдена.
В сенях холодно, как на улице, – кожу щиплет, рубаха не греет. Струи ледяного воздуха бьют сквозь щели пола в босые ступни. Но это не страшно.
Страшное – за дверью напротив.
Убырлы карчык – Упыриха. Зулейха ее так про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь живет с ними не в одной избе. Дом Муртазы просторный, в две избы, соединенные общими сенями. В день, когда сорокапятилетний Муртаза привел в дом пятнадцатилетнюю Зулейху, Упыриха с мученической скорбью на лице сама перетаскала свои многочисленные сундуки, тюки и посуду в гостевую избу и заняла ее всю. «Не тронь!» – грозно крикнула она сыну, когда тот попытался помочь с переездом. И не разговаривала с ним два месяца. В тот же год начала быстро и безнадежно слепнуть, а еще через некоторое время – глохнуть. Спустя пару лет была слепа и глуха, как камень. Зато теперь разговаривала много, не остановить.
Никто не знал, сколько ей было на самом деле лет. Она утверждала, что сто. Муртаза недавно сел подсчитывать, долго сидел – и объявил: мать права, ей действительно около ста. Он был поздним ребенком, а сейчас уже сам – почти старик.
Упыриха обычно просыпается раньше всех и выносит в сени свое бережно хранимое сокровище – изящный ночной горшок молочно-белого фарфора с нежно-синими васильками на боку и причудливой крышкой (Муртаза привез как-то в подарок из Казани). Зулейхе полагается вскочить на зов свекрови, опорожнить и осторожно вымыть драгоценный сосуд – первым делом, перед тем, как топить печь, ставить тесто и выводить корову в стадо. Горе ей, если проспит эту утреннюю побудку. За пятнадцать лет Зулейха проспала дважды – и запретила себе вспоминать, что было потом.
За дверью пока – тихо. Ну же, Зулейха, мокрая курица, поторопись. Мокрой курицей – жебегян тавык – ее впервые назвала Упыриха. Зулейха не заметила, как через некоторое время и сама стала называть себя так.
Она крадется в глубь сеней, к лестнице на чердак. Нащупывает гладко отесанные перила. Ступени крутые, подмерзшие доски чуть слышно постанывают. Сверху веет стылым деревом, мерзлой пылью, сухими травами и едва различимым ароматом соленой гусятины. Зулейха поднимается – шум метели ближе, ветер бьется о крышу и воет в углах. По чердаку решает ползти на четвереньках – если идти, доски будут скрипеть прямо над головой у спящего Муртазы. А ползком она прошмыгнет, веса в ней – всего ничего, Муртаза одной рукой поднимает, как барана. Она подтягивает ночную рубаху к груди, чтобы не испачкалась в пыли, перекручивает, берет конец в зубы – и на ощупь пробирается между ящиками, коробами, деревянными инструментами, аккуратно переползает через поперечные балки. Утыкается лбом в стену. Наконец-то.
Приподнимается, выглядывает в маленькое чердачное окошко. В темно-серой предутренней мгле едва проглядывают занесенные снегом дома родного Юлбаша. Муртаза как-то считал – больше ста дворов получилось. Большая деревня, что говорить. Деревенская дорога, плавно изгибаясь, рекой утекает за горизонт. Кое-где в домах уже зажглись окна. Скорее, Зулейха.
Она встает и тянется вверх. В ладони ложится что-то тяжелое, гладкое, крупно-пупырчатое – соленый гусь. Желудок тотчас вздрагивает, требовательно рычит. Нет, гуся брать нельзя. Отпускает тушку, ищет дальше. Вот! Слева от чердачного окошка висят большие и тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная пастила. Тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Можно откусывать по чуть-чуть и долго рассасывать, катая шершавый кислый кусочек по нёбу, а можно набить рот и жевать, жевать упругую массу, сплевывая в ладонь изредка попадающиеся зерна...
Рот мгновенно заливает слюна. Зулейха срывает пару листов с веревки, скручивает их плотно и засовывает под мышку. Проводит рукой по оставшимся – много, еще очень много осталось. Муртаза не должен догадаться. А теперь – обратно.
Она встает на колени и ползет к лестнице. Свиток пастилы мешает двигаться быстро. Вот ведь действительно – мокрая курица, не догадалась какую-нибудь торбу взять с собой. По лестнице спускается медлен- но: ног не чувствует – закоченели, приходится ставить онемевшие ступни боком, на ребро. Когда достигает последней ступеньки, дверь со стороны Упырихи с шумом распахивается, и светлый, едва различимый силуэт возникает в черном проеме. Стукает об пол тяжелая клюка.
– Есть кто? – спрашивает Упыриха темноту низким мужским голосом.
Зулейха замирает. Сердце ухает, живот сжимается ледяным комом. Не успела... Пастила под мышкой оттаивает, мягчеет.
Упыриха делает шаг вперед. За пятнадцать лет слепоты она выучила дом наизусть – передвигается в нем уверенно, свободно.
Зулейха взлетает на пару ступенек вверх, крепче прижимая к себе локтем размякшую пастилу.
Старуха ведет подбородком в одну сторону, в другую. Не слышит ведь ничего, не видит, – а чувствует, старая ведьма. Одно слово – Упыриха. Клюка стучит громко – ближе, ближе. Эх, разбудит Муртазу...
Зулейха перескакивает еще на несколько ступенек выше, жмется к перилам, облизывает пересохшие губы.
Белый силуэт останавливается у подножия лестницы. Слышно, как старуха принюхивается, с шумом втягивая ноздрями воздух. Зулейха подносит ладони к лицу – так и есть, пахнут гусятиной и яблоками.
Вдруг Упыриха делает ловкий выпад вперед и наотмашь бьет длинной клюкой по ступеням лестницы, словно разрубая их мечом пополам. Конец палки свистит где-то совсем близко и со звоном вонзается в доску в полупальце от босой ступни Зулейхи. Тело слабеет, тестом растекается по ступеням. Если старая ведьма ударит еще раз... Упыриха бормочет что-то невнятное, подтягивает к себе клюку. Глухо звякает в темноте ночной горшок.
– Зулейха! – зычно кричит Упыриха на сыновью половину избы.
Так обычно начинается утро в доме.
Зулейха сглатывает высохшим горлом комок плотной слюны. Неужели обошлось? Аккуратно переставляя ступни, сползает по лестнице. Выжидает пару мгновений.
– Зулейха-а-а!
А вот теперь – пора. Третий раз повторять свекровь не любит. Зулейха подскакивает к Упырихе – «Лечу, лечу, мама!» – и берет из ее рук тяжелый, покрытый теплой липкой испариной горшок, как делает это каждый день.
– Явилась, мокрая курица, – ворчит та. – Только спать и горазда, лентяйка...
Фрагмент книги и обложка предоставлены "Редакцией Елены Шубиной" издательства "АСТ".