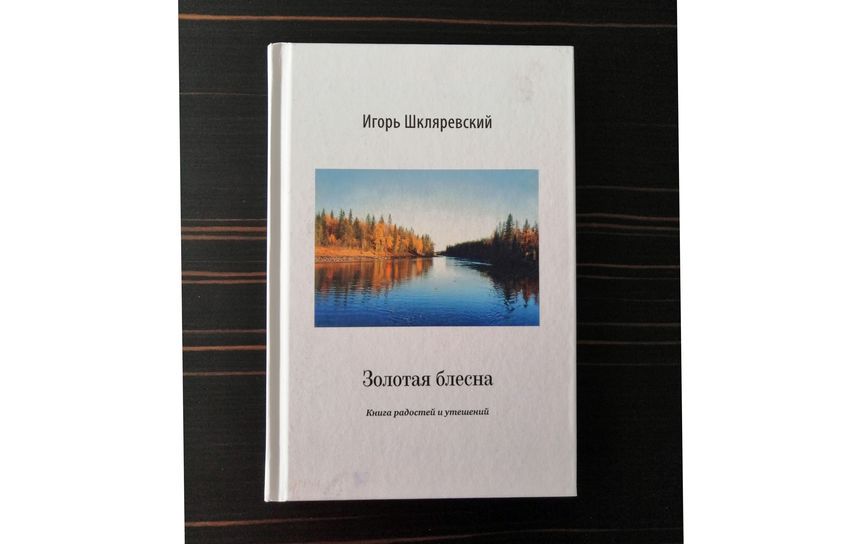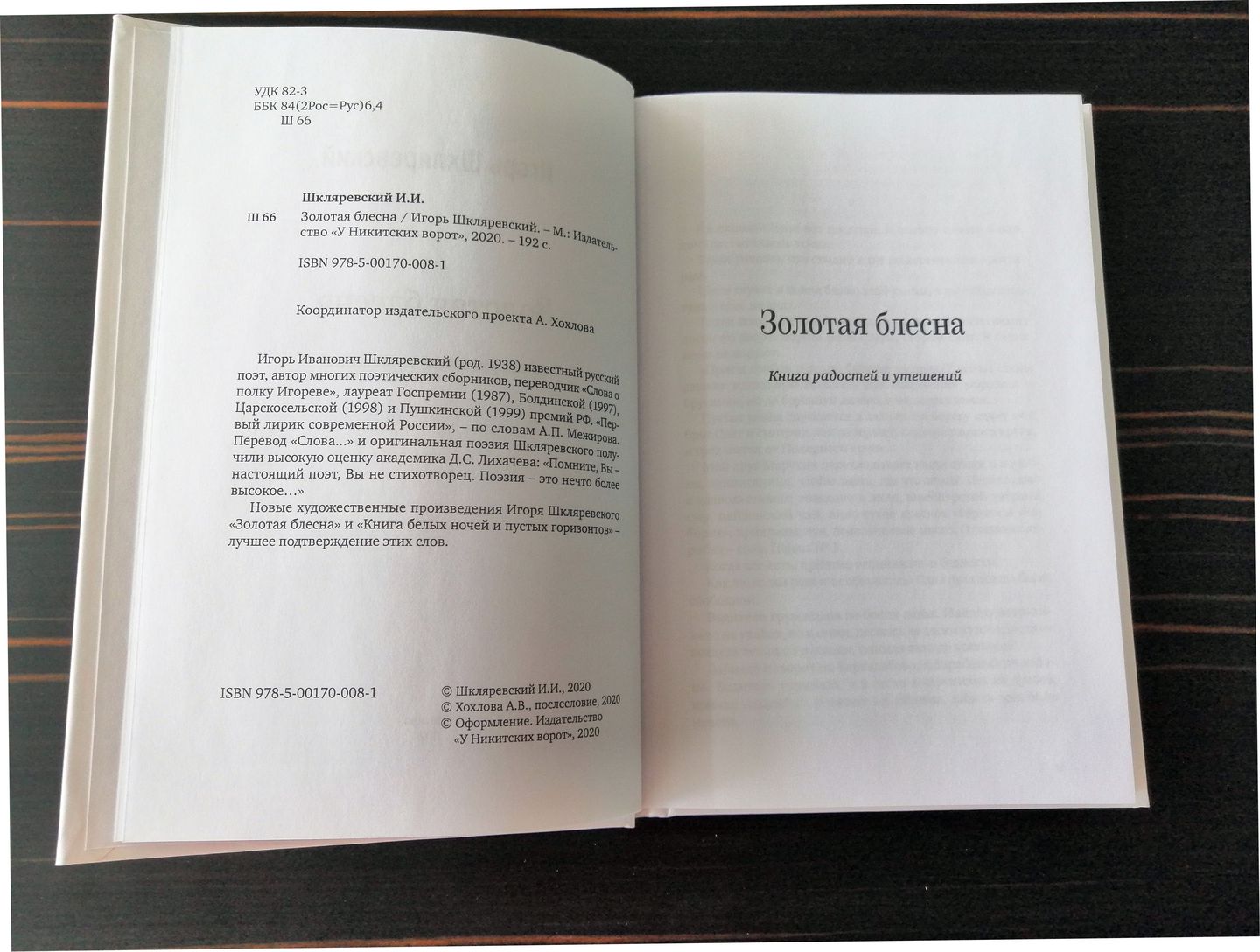Текст: Владимир Некляев

...Мы шли с ним через притемненный зал Центрального дома литераторов, чтобы проститься с Евгением Евтушенко, и в зале шелестело, будто ветер шумел на берегу реки в камышах: «Шкляревский… Шкляревский… Шкляревский…»
К тому времени в нем начинали брать свое прожитые годы, и он уже не был таким, каким я знал его во времена наших рыбалок на северных реках: стремительно-легким, танцующим на воде. Но легкость слова, легкость мысли его не покидала, и главные книги Игоря Шкляревского, «Золотая блесна» и «Книга белых ночей и пустых горизонтов» были еще впереди.
Допускаю, что ему не понравится замечание об этих книгах как о главных — «не главных» он просто не писал. Но все же… Но все же не было в прежних книгах того, или, скажу иначе, не было в них главным то, что стало таковым в книгах последних – сконденсированного, постоянного присутствия в них беспредельности и необъятности. И если в прежних книгах Шкляревского присутствие в вечности его несколько смущало:
- Мир окружала тьма ночная,
- И небо надо мной текло,
- И бился ум, изнемогая,
- Как бьется бабочка в стекло,
— то в последних книгах — ничуть.
Теперь, если что-то его и смущает, так разве то, что беспредельность длиннее мысли.
Это не может не смущать. Но для того, чтобы тебя смущало именно это, а не твои манеры, не то, как ты одет, во что обут и как вальс танцуешь, нужно быть или Паскалем, или Эйнштейном. Или тем, кто выходит в космос за водой и дровами. И возвращается с догадкой: что-то было еще до Вселенной. До этой, не измеряемой ни километрами, ни световыми годами, непостижимости. Пространства без славы Цезаря и его микроскопических завоеваний.
Что-то было ещё до Вселенной… Какое-то ничто без времени и расстояний.
Молчание холодной черноты, перед которой даже гроб и духовой оркестр на кладбище, как Первомайский праздник, а черепа, скелеты и картинки ада в сравнении с ничто — весёлый карнавал в Палермо.
И я, возникший в этой страшной непроглядности в чудовищной воронке несогласия с безмозглостью пространства, закрученной с обратной силой, которую мы называем Богом, со скоростью, почти переходящей в неподвижность, в материю живого существа, в глазастую икринку человечества, с её живыми нервами, — чудесной проволокой Бога с разнообразными возможностями: осязание, зрение, слух, соединённые с извилинами мозга, скрывающего от себя своё возникновение…
В чудовищной воронке, закрученной с обратной силой, которую мы называем Богом, летит и вертится, движимая той же необъяснимой силой, Земля. Одуванчик в щели непроглядной черноты. Когда Коперник заявил, что она вертится, не все закричали: «Нет»! Многие спрашивали: «Почему?» Коперник не знал (как до сих пор никто толком не знает), почему? — и отвечал: «По природе своей».
Но какова природа?.. Космоса, человека, о котором мы знаем не больше, чем о космосе? Даже меньше. И Шкляревский, поэт по природе своей, интуитивно понимает – почему. Потому что люди так же обманчиво близки друг другу, как обманчиво близки звезды.
- С крыльца уже видна Полярная звезда.
- Свет укорачивает расстояния, а темнота их удлиняет.
- В тёмные ночи прозревают зрячие.
- Замечу заодно, что самое недальновидное — не видеть близкое...
Есть ли у Шкляревского в его космических выходах предшественники? Кто-нибудь, кроме космонавтов? Он сам говорит, что обшарил с фонариком всю мировую литературу и никого не нашел. Мне тоже не удавалось никого найти, пока не вспомнился мальчик в подвале, горевавший о том, что через миллионы лет может погаснуть солнце. Хотя уже тогда знал, что миллионы лет — ничто, когда они пройдут. И солнце ничто, когда оно погаснет.
Этим мальчиком и был Игорь Шкляревский. Предшественник самому себе.
Его стихи о чернобыльском ангеле читают, как молитву, в храмах. Не веря, что после жизни есть что-то, кроме вечного не-присутствия в ней, он пытается тем не менее о чем-то договориться с Богом.
Но не в молитвах: «Боже, дай!..»
Всё уже дано.
Он любит смотреть в ту высь, в которой обитает Творец. В небеса. Особенно в северные. И особенно тогда, когда всеми красками мира полыхает в них северное сияние, как доказательство того, что Творец — художник.
«Есть поэты, — говорит о нем поэт Евгений Рейн, — у которых генеалогия проступает очень явно. Этого нельзя сказать о Шкляревском. Трудно сказать, какова его поэтическая генеалогия, от кого он происходит в русской поэзии. Он в этом смысле человек совершенно особый и отдельный».
Трудно ли это сказать, нельзя ли этого сказать, но это так. Особый и отдельный. И это не только гордое одиночество, но и выбор. Обособление, отделение от эрзац-культуры, продукта цивилизации, которая подменяет культуру, ей противостоит, и от которой далеко, к другому берегу улетает «Золотая блесна». Туда, где пушкинская ясность и пушкинский язык, к берегу, на котором в современной русской словесности почти никого не сталось.
Когда академик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл Шкляревского достоянием национальной культуры, он говорил о нем не только как о поэте, но и как о хранителе русского языка. Не хранитель языка так перевести «Слово о полку Игоревом», как перевел Шкляревский, ни за что бы не смог.
Проблемы и горести нынешней России — это, если не во всем, то во многом проблемы и горести ее сегодняшней речи. Одно из другого проистекает. Если бы Россия говорила на языке Пушкина, в ней всё могло быть иначе. Это была бы пушкинская Россия. Но она говорит на ином языке. И пушкинский язык, на котором пишет Шкляревский, звучит в ней почти как иностранный.
На станции Чупа нет ни души. И только солнце в полночь светит сквозь осины.
Такая тишина, что стыдно идти по деревянным тротуарам.
Чтобы прочитать то, что здесь написано, услышать тишину, в которой стыдно идти по деревянным тротуарам, нужно обладать не только литературным вкусом. Нужно чувствовать язык во всей его глубине. Или хотя бы в глубине словаря Даля.
Шаги стучат в конце безлюдной улицы, а ты еще идешь туда — весь на виду.
Пустая улица спускается к заливу. На берегу сидит мой брат Олег и смотрит, как по зеркалу воды расходятся круги, в трех шагах от Полярного круга.
Течение прозы Шкляревского — это течение реки. Ее ритмы и ее перетекания. Совпадения интонаций и настроений, протяженностей звука и строки. Они соединяются сами по себе, как соединяется вода — в них есть ее дрожь и ее всплески. Есть даже благодарность за всполохи блесны, за ветер, гоняющий серебристую рябь, за свет белых ночей над ней и призрачных сумерек…
Белые ночи отошли, истаяли и превратились в призрачные сумерки.
Подходишь к дому и не узнаёшь знакомый камень или куст, осознавая эту неотчётливость в самом себе.
Серые ночи незаметно стали синими.
Земля своей согретой половиной уже заглядывает в темноту Вселенной.
Так соединяются, перетекая друг в друга, тьма и свет…
Объединять и соединять — слова с разными значениями. Существенно разными. Объединять нас может многое. Чаще всего временное. В отличие от того, что их соединяет. И среди того немногого, что соединяет, в самой его сердцевине — язык. Когда он рушится, превращаясь в жаргон, в эрзац, в подделку языка, тогда рушится, становится подделкой все остальное. И всё называется не своими словами, и все называются не своими именами.
Соединяет вечное. То, что не определяется курсом доллара, ценой барреля нефти. И если говорить о философии книг Шкляревского, всех без исключения, так она именно в этом.
Ему завидуют. И суетливо завидуя, говорят, что и стихи его, и проза — для журналов по лесоводству и водному хозяйству. Что ж, вот “для журнала по лесоводству”:
«Не просто так стою над пнями, стою над страшной глубиной, и отсеченными ветвями шумят деревья надо мной...»
В 1987 году в журнале по лесоводству было написано, что Государственную премию за книгу стихов «Слушаю небо и землю» Игорь Шкляревский отдал на посадку лесов на Припяти и Десне, превратив гонорар в березы, ели, тополя... У кого еще была такая рецензия на книгу?
А вот несколько строк для “журнала по водному хозяйству”:
«Вода смотрела мальчику в глаза, испуганно моргая тростниками, прошла гроза, и не было людей. На сиротливой отмели песчаной, забыв себя, сидел он перед ней...»
О воде, о её струении в дожде, ручье и реке, о ее течении в морях и океанах он говорит не как о тихом или быстром, темном или прозрачном, а как о не знающем боли.
Вода — счастливое состояние человечества. Это одна из тайн, которых он никому не открывает. Он не открыватель — он создатель и хранитель тайн. И если чего-то он боится, так лишь того, что дальше — за тайну — некуда будет идти. «Солоноватый привкус крови на губах приводит меня к Океану, и дальше след теряется».
В потрясении стоит он перед бесконечностью, но в нем нет апокалипсических страхов. Бесконечность не может кончиться. Пророчества о конце света он слушает с насмешливым лицом, утверждая, что мир можно спасти.
Как-то у костра на берегу северной реки он говорил, разглядывая кольца на срезе березового кругляка:
«Вот смотри… На уроках ботаники нас учили, что так, кольцами, дерево считает свои годы. Но зачем дереву считать годы, если оно не знает, не помнит, что когда-нибудь умрет? Для чего ему знать то, о чем никто его не спросит? Ни для чего. Тогда что это такое?.. Круги Вселенной — вот что в сердцевине дерева. Она, Вселенная, во всех и во всем. В тебе, во мне, в рыбе. Вся. Целиком. И она одна — и не одна, как круги спирали. Вот что такое Бог. Я это знаю, поэтому не спрашиваю его, как спасаться, как жить? И не жду от него ответа, поэтому меня не раздражает то, что он молчит…»
В котелке над костром вскипала вода, и на скорлупе яйца, на выступающем над водой маленьком островке суетился, упав с березового кругляка, муравей. Вода уже бурлила — и у него не было шансов. Шкляревский взял щепку, приставил к скорлупе — и муравей взбежал по щепке на его палец.
Одна Вселенная была спасена.
Мы все на пальце Бога.
В избушке, где мы жили, висел на стене телефон. Обыкновенный уличный автомат, который приволок, вырвав его из телефонной будки на мурманском вокзале, егерь Максимов. В лесу не было к чему его подключить. Егерь Максимов бросал в щель монетоприемника две копейки, набирал номер и слушал бесконечное молчание, текущее над Млечным путем, над лесом и рекой, над нашей избушкой... Иногда часами... “Поговорили, — нажимал он кнопку возврата монет, цепляя трубку на рычаг. — Бог сказал, что платить не нужно”.
— Вот это разговор! — восторженно восклицал Шкляревский. — Ты гений всего человечества, Максимов! Только сам не осознаешь, что гений, до этого тебе еще расти. Впрочем, как и человечеству...
Егерь Максимов в недавнем прошлом был библиотекарем. В егеря пошел, “потому что в библиотеку ходить не стали”.
«Золотая блесна» и «Книга белых ночей и пустых горизонтов» — книги, написанные во времена пустых библиотек – человечеству на вырост.