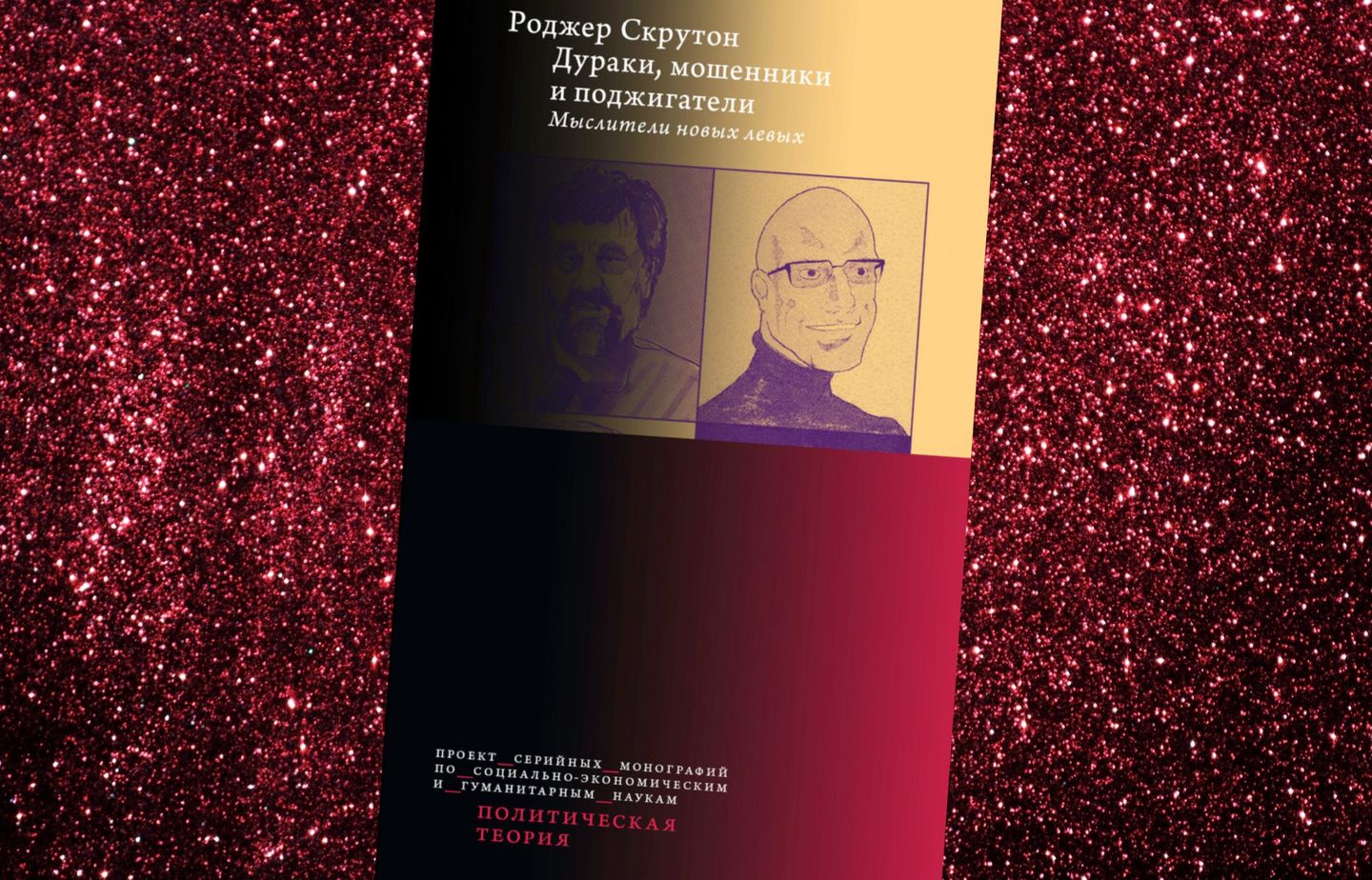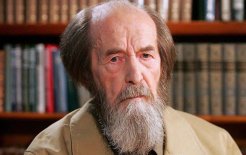Молодой писатель Булат Ханов не скрывает, что придерживается глубоко левых взглядов. Потому мы и попросили его ответить на выпады в сторону левых идей и их носителей, которых в свежепереведенной книге консервативного философа Роджера Скрутона, в полном соответствии с ее названием, оказалось с избытком.

Текст: Булат Ханов
Скрутон Р. Дураки, мошенники и поджигатели: Мыслители новых левых. Пер. с англ. Н. Глазкова. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 440 с.
Неподготовленный читатель из России, возможно, не поймет ни посыла книги Скрутона, ни ее пафоса. На отечественной публичной сцене левая идея маргинализирована, а социализм прочно ассоциируется с дефицитом, лагерным опытом и властью бюрократов. Ненависть и презрение к Советскому Союзу, который для удобства воспринимается критиками как исторически однородное явление, объединяют у нас и правящую элиту, и самую заметную часть либеральной оппозиции.
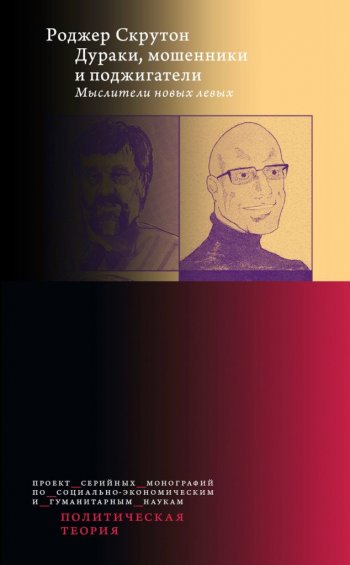
Между тем на Западе все иначе. Такое означающее, как «социализм», звучит востребованным и желанным, особенно среди молодых. Если же обратить взор на академическое поле, то обнаружится, что западная гуманитарная среда поголовно левая. Консерваторы и умеренные прогрессисты, традиционно молящиеся на невидимую руку рынка, находятся в меньшинстве и чувствуют себя ущемленными.
Если учесть этот контекст, книга Скрутона, вышедшая в 2015-м, делается более ясной, а ее тон если не более симпатичным, то более извинительным. Очков ей добавляет и радикальный по меркам современной философии жест, на который британский автор решается в конце, буквально в финальных строках. Скрутон поднимает забрало и бросает неприкрытый вызов левому большинству. Он требует от левых доказать, почему они жаждут насадить новый порядок и не считаются с его желанием – желанием убежденного консерватора и классического гуманиста – оставить все как есть. Сам Скрутон умер в 2020 году, но его воззвание в актуальности не потеряло. В самом деле: почему позиция левого активиста и левого интеллектуала по умолчанию заслуживает большего доверия, чем ценности добропорядочного гражданина, который любит свою семью, своих соседей, свою церковь и свой город?
А вот неудачи заложены уже на уровне композиции. В разоблачении левачества Скрутон движется по географическому принципу. «Ресентимент в Британии», «Презрение в Америке», «Освобождение во Франции», «Скукота в Германии», «Бессмыслица в Париже» – с этих слов начинаются названия глав с первой по шестую. И дело не в том, что левая идеология, тяготея к интернационализму, противится такому делению, а в том, что Скрутон, сражаясь с вражеским окружением, выбирает заведомо ошибочный метод типизации. Консервативный философ, следуя за географией, ставит в один ряд таких разных интеллектуалов, как Сартр и Фуко, Лакан и Делез, Альтюссер и Деррида, Хобсбаум и Томпсон. Возможно, для тех, кто не в теме, такое искусственное сближение ни о чем не говорит, но это слабое оправдание. Кто-то, например, не видит различий между китайской и японской мифологией, хотя общего между ними меньше, чем между христианством и исламом.
Стремясь демонизировать противника, Скрутон записывает в ряды леваков и американских леволибералов, и французских постструктуралистов, и рядовых критиков неолиберализма с социал-демократическими взглядами. Дьявол социализма является в разных обличьях. Сам того не сознавая, заряженный на неприятие Скрутон начинает подозревать, что апологеты сталинского СССР, бунтующие французские студенты, борцы за права меньшинств и приверженцы истмата – это одни и те же люди. Даже если не одни и те же, то уж точно способные легко договориться между собой и скоординировать действия по подрыву существующих институтов. Эх, если бы.
Столь неадекватная оценка врага проявляется и при его разборе: как теоретическом, так и историческом. На протяжении книги не раз складывается впечатление, что с базовыми идеями марксистов Скрутон знаком по пересказам и по отдельным фрагментам, а целиком он не читал ни «Капитала», ни даже «Манифеста коммунистической партии». Иначе чем объяснить превратное толкование не только таких сложных явлений, как товарный фетишизм, но разжеванных понятий вроде пролетариата? Так, Скрутон, убежденный, будто ставит оппонента в невыгодное положение, язвительно утверждает, что Маркс никогда не «утруждал себя физической работой». В том же грехе обличаются и прочие марксисты, которые, избрав непыльное интеллектуальное поприще, смели заявлять о солидарности с заводскими рабочими.
Претензия бьет мимо. Неловко проговаривать банальности, но в марксистской терминологии пролетарий – это тот, кто не владеет средствами производства и продает свою рабочую силу взамен на средства к существованию. И уже на этом основании он – хотя бы на экономическом уровне – противопоставлен буржуа, который владеет средствами производства и извлекает прибыль, вычитывая прибавочную стоимость из труда пролетария.
Скрутон настаивает на узости марксистской теории, фетишизирующей производство и не видящей ничего за его пределами: «Пока одни изучают право, религию, искусство и семью, марксисты фокусируются на “материальных” реалиях, под которыми подразумевается производство еды, жилья, машин, мебели и транспортных средств». Упрек этот иначе как экстравагантным не назовешь. Дело даже не в том, что надо постараться упустить из виду такие базовые работы, как «К критике гегелевской философии права» и «Происхождение семьи и частной собственности», а в наивной мысли, будто марксисты, претендующие на всецелый анализ общественных отношений, позабыли о праве, религии и семье. Тем страннее выглядит в книге глава о Франкфуртской школе, представители которой как раз старались отойти от исследования материальных реалий и уж точно не ограничивали себя критикой потребления и вещизма.
К слову, критику потребления Франкфуртской школой Скрутон возводит к Танаху. Якобы франкфуртцы, отвергая правила капиталистической цивилизации, всего-навсего облекали в марксистскую мишуру древнееврейские предостережения по поводу идолопоклонства. Размышляя так, Скрутон превращает детальное социологическое исследование Адорно и Хоркхаймера в лишенный исторической конкретики нарратив о борьбе за спасение души. Мотивация Скрутона понятна. Желая обеззаразить те вражеские тексты, которые он не может проигнорировать, британский мыслитель стремится вырвать их из рамок строгой марксистской терминологии и бросить в размытое поле общекультурных феноменов, где их влияние на неокрепшие умы склонной к стихийному левачеству молодежи будет сведено к нулю.
Многим разбираемым мыслителям, особенно из Франции, Скрутон отказывает не то что в теоретической состоятельности, а в смысле вообще. Целые фрагменты, выдранные из работ Альтюссера, Лакана, Делеза, Бадью, предъявляются как невнятица и торжество нелепости. Тексты французов сравниваются с заклинаниями, которые, не умея описать действительность, тем не менее пытаются ее подчинить. Примечательно, что Скрутон, ища опору в так называемом здравом смысле, не предпринимает сколько-нибудь заметных усилий по погружению в критикуемый материал. Это, кстати, невыгодно отличает консервативного философа от того же Маркса, который, прежде чем критиковать что-то, досконально это явление изучал. Пойми внутреннюю логику текстов оппонента, прими его во всей сложности и изощренности, выяви имманентные несоответствия и лишь затем принимайся за разбор – так построена знаменитая «Немецкая идеология».
Посудите сами. Разоблачения Адорно и Хоркхаймера буржуазной рациональности твердо определяются Скрутоном как «нападки», что «совершенно очевидно принимают характер истерики». Альтюссеру приписывается «параноидальный менталитет». «Ликующий» тон писаний Делеза и Гваттари – «признак психического расстройства». Лакан без оговорок признается «чокнутым психиатром». С яростью диванного эксперта, освоившего психиатрический справочник и площадную ругань, Скрутон ставит диагнозы, в которых откровенно мало смыслит. Всего один шаг остается до того, чтобы объявить левизну патологией, но таких вольностей британский консерватор себе не позволяет.
Не брезгует он и перечислением биографических подробностей. Альтюссер убивает жену – это прямое следствие его политических воззрений и параноидального стиля письма. Лакан объявляет о несуществовании сексуальных отношений – это любвеобильный француз, известный беспорядочными половыми связями, просто издевается над благодарной публикой. Делез отращивает ногти – теперь вы знаете, откуда берет истоки понятие ризомы. Даже безупречную репутацию Грамши (мужественный коммунист за долгие годы заключения в фашистской тюрьме угробил здоровье) Скрутон ставит левым в вину. И все это без намека на иронию.
Обращения к истории со стороны автора также изобилуют неточностями и передергиваниями. Советская действительность нанесена в книге густыми черными мазками. Так, Скрутон бездоказательно упоминает аж о трех «рукотворных» случаях голода в Советском Союзе и легко превосходит отечественных либералов и националистов, которые обычно ограничивают количество «голодоморов» двумя. Кроме того, автор, игнорируя партийную борьбу в СССР 1920-х годов и печальную судьбу левой оппозиции, утверждает, будто в коммунистическую идеологию заложен твердый отказ от межпартийной и межфракционной борьбы в пользу секретных совещаний внутри партийных элит.
Без традиционного отождествления фашизма и коммунизма тоже не обходится. Правда, Скрутон в своих выводах заходит порой непростительно далеко: «Фашистские правительства иногда приходят к власти путем демократических выборов, тогда как коммунистические всегда полагаются на государственный переворот». Интересно, чем таким поглощающим занимался автор в 1973 году, когда крайне реакционные силы свергали законное коммунистическое правительство в Чили?
И так далее, и так далее. На фоне всего этого определение Скрутоном левых интеллектуалов как выразителей ресентимента выглядит не иначе как саморазоблачение. Подтасовки, злоба, зависть к популярности и заработкам – все составляющие ресентимента Скрутон демонстрирует на своем примере. Ему обидно, что гуманитарные исследования леваков хорошо спонсируются буржуазией через гранты и прочие программы. Сам того не замечая, британец перехватывает этот аргумент у идеологического противника. Как известно, апелляция к проплаченности – вотчина самих левых.
Даже если так. Даже если оплачиваются. Вообразим на миг, что левые интеллектуалы исчезли. Нет ни марксистов, ни анархистов вроде воинственного старика Хомского, ни французских постструктуралистов, ни левых психоаналитиков, ни авторитетных британских историков наподобие Хобсбаума и Перри Андерсона, рассматривающих Октябрьскую революцию как великое достижение цивилизации. Никого из них нет. Кто тогда останется? Джордан Питерсон? Фрэнсис Фукуяма? Роджер Скрутон?
Это все равно что стереть все континенты, оставив лишь Антарктиду да Австралию, где поселятся мертвые философы, жившие до XVIII века, до разделения на левых и правых.
Ответ отчасти кроется в самом вопросе. Как есть – уже не будет, потому что изменения, далеко не естественные, вшиты в саму ткань истории. В ее кризисные периоды обостряются крайности. Суть не в том, ожидают ли нас резкие изменения, а в том, какой характер они примут. Будет ли это рост национализма, помноженный на увеличение пропасти между самыми богатыми и самыми бедными? Или это будет обращение к прямой демократии, движение в сторону равного доступа к медицине, к образованию, к жилью, к прочим благам? Позволит ли прорыв в области технологий освободить человека от изнурительного и отупляющего труда и сократить его рабочий день? И в конечном счете избавить нас от трудовой повинности? В самом широком смысле быть левым – это не более чем стремление решать свою судьбу самостоятельно, а не отдавать ее на откуп партиям, кредиторам и начальникам. Быть левым в узком смысле – это строить разветвленные горизонтальные связи, придерживаться верности принципам демократического централизма и делать ставку на общую собственность на средства производства.