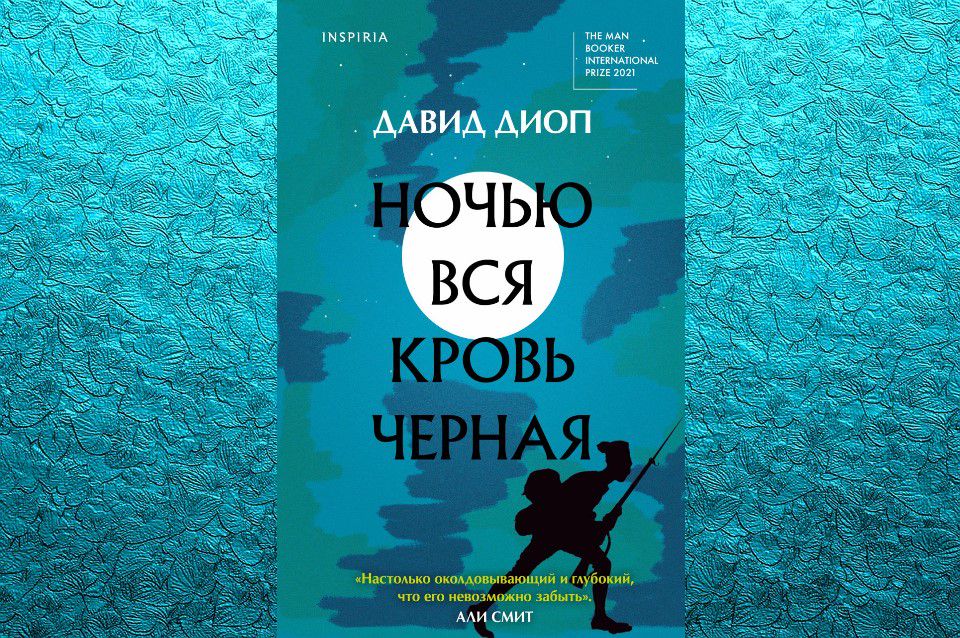Текст: ГодЛитературы.РФ
Любая война — будь то Первая мировая или Третья Пуническая — это в сухом остатке лишь смерть, смерть и необъятный ужас. Ровно об этом французский писатель с сенегальскими корнями Давид Диоп написал свой короткий роман «Ночью вся кровь черная». И получил за него разом Международного Букера-2021, Европейскую литературную премию и Гонкуровскую премию лицеистов.
Первая мировая война; Альфа Ндие и Мадемба Диоп, два сенегальских солдата, сражаются на стороне Франции. Мадембу серьезно ранят в бою, и он умоляет друга убить его и избавить от мучительной смерти — однако Альфа не может заставить себя сделать это; он начинает сходить с ума, болтать с Богом и обвинять себя в трусости. Пытаясь отомстить за смерть друга и утешиться, он придумывает жуткий ритуал: каждую ночь пробирается через линию фронта, убивает врага и возвращается назад с отрубленной рукой. Сперва сослуживцы Альфы глядят на его подвиги с восхищением, но вскоре он начинает их пугать; товарищи пускают слух, что Альфа никакой не герой, а колдун...
Текст очень вязкий, сомнамбулический, окутанный бликами языческого капища — и в то же время суховатый, протоколирующий, похожий на очерк военкора-сказителя. Где-то между этих двух полюсов и рождается кровавое безумие, в которое Диоп погружает своего героя — и нас. Погружает — и позволяет вынырнуть: «Мои семь рук — это ярость, месть, безумие войны. Я не хотел больше видеть ярость и безумие войны, так же, как мой командир не мог больше выносить вида моих семи рук в окопе. Так что в один прекрасный вечер я решил их похоронить».
Ночью вся кровь черная / Давид Диоп [пер. с фр. С. Васильевой]. — М.: Inspiria, 2022. — 160 с.
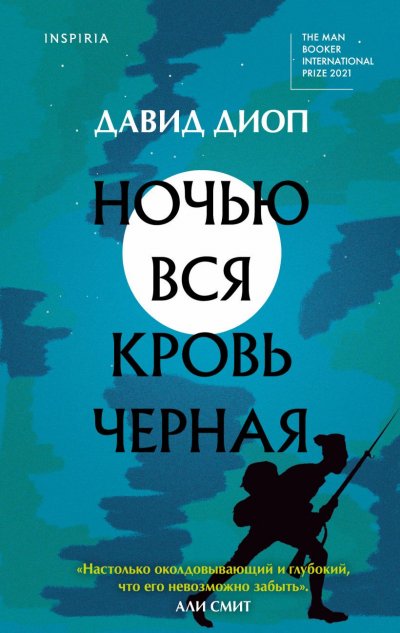
<...> И все они погибнут, не думая ни о чем, потому что капитан Арман сказал им: «Ну, что, шоколадные, вам по природе положено быть храбрее самых храбрых. Благодарная Франция с восторгом смотрит на вас. О ваших подвигах пишут все газеты!» А они и рады: выскакивают сломя голову на верную смерть, орут как буйнопомешанные, сжимая в левой руке положенную по уставу винтовку, а в правой — дикарский тесак.
Но я, Альфа Ндие, я понял, что сказал командир. Никто не знает, что я думаю, я волен думать, что хочу. Им же не надо, чтобы я думал то, что думаю. В словах командира кроется нечто немыслимое. Франции капитана Армана нужно, чтобы мы разыгрывали дикарей, когда это ее устраивает. Ей нужно, чтобы мы были дикарями, потому что противник боится наших тесаков. Я знаю, я понял, это не так уж и сложно.
Франции капитана Армана наша дикость на руку, вот мы — и я, и остальные, — и изображаем послушно дикарей. Крошим вражеские тела, калечим, рубим головы, вспарываем животы. Единственная разница между моими товарищами из разных племен — тукулерами и серерами, бамбара и малинке, суссу, хаусса, мосси, марка, сенуфо, бобо и прочими волофами, — единственная разница между ними и мной в том, что я стал дикарем осознанно. Они разыгрывают комедию, только когда вылезают из земли, я же разыгрываю комедию только с ними, сидя в спасительном окопе. В их компании я и смеялся, и пел фальшиво, но они меня уважали.
Но как только я сломя голову с диким криком выскакивал из окопа — как младенец из материнского чрева, врагу уже было несдобровать. Только держись! И в окоп сразу после боя я никогда не возвращался. Я возвращался позже. Командир знал и не мешал мне, только всё удивлялся, как это я возвращаюсь всегда живой, всегда с улыбкой. Он не мешал мне, даже когда я возвращался поздно, потому что я приносил в окоп трофеи. Приходил с добычей, как дикарь с войны. После боя, темной ночью или ночью, залитой лунным светом и кровью, я всегда приносил вражескую винтовку, а вместе с ней — вражескую руку. Руку, которая ее держала, сжимала ее, чистила, смазывала, заряжала, разряжала и снова заряжала. Так что после сигнала к отступлению командир с моими товарищами, зарывшись живьем в спасительную сырость нашего окопа, задавались вопросами. Их было два. Первый: «Вернется ли этот Альфа Ндие опять живым?» И второй: «Принесет ли этот Альфа Ндие снова винтовку вместе с рукой, которая ее держала?» А я всегда возвращался в лоно земли последним, ветер ли, дождь или снег, как говорит командир, иногда под вражеским огнем. И всегда приносил вражескую винтовку вместе с рукой, которая ее держала, сжимала, чистила, смазывала, заряжала, разряжала и снова заряжала. А командир и мои товарищи, те, что остались в живых и каждый раз задавали себе те два вопроса, радовались, слыша вражескую стрельбу и крики. Они думали: «Гляди-ка, вот и Альфа Ндие возвращается домой. Интересно, принес ли он опять винтовку, а вместе с ней — руку?» Чью-то винтовку, чью-то руку.
Возвращаясь домой с трофеями, я видел, что они очень, очень мной довольны. Они оставляли мне поесть, покурить. Они и правда были так рады моему возвращению, что никогда не спрашивали, как это у меня получилось, откуда у меня эта вражеская винтовка, эта отрубленная рука. Они радовались, что я вернулся, потому что любили меня. Я стал их тотемом. Мои руки убеждали их в том, что они живы, что еще один день прожит. А еще они никогда не спрашивали меня, что я сделал с остальным телом. Их не интересовало, ни как я поймал врага, ни как отрубил ему руку. Им был интересен только результат. И они веселились вместе со мной, воображая, как противники теперь трясутся от страха, что и им отрубят руку. А ведь командир и мои товарищи не знали, как я ловил их и что делал с остальным телом. Они не представляли себе даже четверти того страха, который испытывал противник.
Когда я вылезаю из земного брюха, я становлюсь безжалостным. Выборочно. Чуть-чуть.
Не потому, что так скомандовал мне командир, а потому что сам так подумал и захотел. Когда я с криком выскакиваю из земной утробы, у меня нет намерения убить много противников, а только одного, но по-своему, спокойно, медленно, не спеша. Когда я выбираюсь из земли с винтовкой в левой руке и тесаком в правой, меня не слишком занимают мои товарищи. Я их больше не знаю. Они падают вокруг меня лицом вниз, один за другим, а я бегу, стреляю, бросаюсь плашмя на землю. Я бегу, стреляю, ползу под колючей проволокой. Может быть, стреляя, я и убиваю случайно кого-то из врагов, сам того не желая. Может быть. Но мне лично нужна рукопашная схватка. Я затем и бегу, стреляю, бросаюсь плашмя на землю, ползу — чтобы поближе подобраться к противнику. Завидев их окоп, я только ползу, потом почти не двигаюсь. Притворяюсь мертвым. Жду спокойно, чтобы схватить одного из них. Дожидаюсь, пока он вылезет из своей норы. Жду вечерней передышки, прекращения огня.
Всегда кто-нибудь да вылезет из воронки, где он прятался, чтобы вернуться к себе в окоп вечером, когда никто больше не будет стрелять. И тогда своим тесаком я перерубаю ему подколенок. Это просто, он ведь думает, что я убит. Противник не видит меня — я для него труп и труп, один из множества. Ему кажется, что я вернулся из царства мертвых, чтобы убить его. Он так пугается, что даже не вскрикивает, когда я перерубаю ему подколенок. Валится на землю, и всё. Тогда я его обезоруживаю, потом затыкаю ему рот. Связываю за спиной руки.
Иногда это просто. В другой раз труднее. Некоторые сопротивляются. Некоторые не желают верить, что сейчас умрут, отбиваются. Тогда я бесшумно вырубаю их на месте, потому что мне всего двадцать лет и потому что, как говорит мой командир, я — сама сила природы. Потом я хватаю их за рукав или за сапог и потихоньку тащу за собой, пробираясь ползком по ничьей земле, как говорит командир, между двумя глубокими окопами, через воронки от снарядов и лужи крови. Ветер ли, дождь или снег, как говорит командир, я терпеливо жду, пока противник очнется, если я его вырубил. Или же, если тот, кого я притащил в воронку, не сопротивляется, думая меня обмануть, я просто жду, чтобы самому отдышаться. Жду, пока мы оба успокоимся. А пока жду, я улыбаюсь ему при свете луны и звезд, чтобы он не слишком дергался. Но когда я ему улыбаюсь, мне кажется, что я слышу, как он думает про себя: «Чего этому дикарю от меня надо? Что он собирается со мной сделать? Что ли съесть? Или изнасиловать?» Я могу так воображать, что думает противник, потому что я знаю, я понял. Часто, когда я гляжу в голубые глаза противника, я вижу там панический страх смерти, он боится зверства, насилия, людоедства. Я вижу в его глазах то, что рассказывали ему обо мне и чему он поверил, даже не встречаясь со мной до этого. Я думаю, что, когда он видит, как я с улыбкой смотрю на него, он думает, что ему не соврали, что я со своими белыми зубами, сверкающими в темноте, при луне или без нее, сейчас сожру его живьем или сотворю с ним что похуже.
Самое ужасное, когда, отдышавшись, я начинаю раздевать противника. Я расстегиваю верх его военной формы и вижу, как голубые глаза противника подергиваются влагой. Тут я понимаю, что он боится того, что похуже. Храбрый он или потерял голову от страха, смельчак или жалкий трус, но в тот момент, когда я расстегиваю его гимнастерку, потом рубаху, обнажая его живот, такой белый-белый в свете луны или под дождем, или под снегом, который тихо падает на землю, тут я чувствую, как глаза противника как бы гаснут. Они все одинаковые — высокие, маленькие, толстые, храбрые, трусливые, гордые: как увидят, как я смотрю на их белый, трепещущий живот, сразу глаза у них гаснут. Все одинаковые.
Тогда я немного собираюсь с мыслями и думаю о Мадембе Диопе. И всякий раз слышу, как он умоляет зарезать его, и думаю, как безжалостно было с моей стороны заставлять его трижды умолять меня. Я думаю, что на этот раз я проявлю больше жалости и прикончу противника, не дожидаясь, чтобы он три раза умолял меня. Чего я не сделал для друга, я сделаю для врага. Из человеколюбия.
Когда противник видит, что я берусь за тесак, его голубые глаза гаснут окончательно. В первый раз противник пнул меня и попытался вскочить на ноги, чтобы убежать. После этого я стал старательно связывать противнику ноги в щиколотках. Поэтому, как только в правой руке у меня оказывается тесак, противник начинает дергаться и извиваться как буйнопомешанный, думая, что так ему удастся уйти от меня. Но это невозможно. Противнику следовало бы знать, что ему уже не уйти, потому что он связан крепконакрепко, но он все еще надеется. Я вижу это по его голубым глазам, как видел в черных глазах Мадембы Диопа надежду, что я прекращу его страдания.
Его голый белый живот судорожно поднимается и снова падает. Противник задыхается и вдруг воет — тихо-тихо, из-за кляпа, которым заткнут его рот. Он тихо воет, когда я беру все его нутро и выворачиваю наружу, под дождь, ветер, снег или лунный свет. Если в этот миг глаза его не гаснут насовсем, я ложусь рядом с ним, поворачиваю его лицо к себе и смотрю, как он умирает. Недолго. Потом перерезаю ему горло, как следует, гуманно. Ночью вся кровь черна.