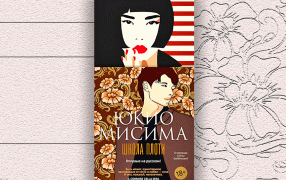Текст: Михаил Визель
Как водится, вопрос заранее подразумевал ответ: да, разумеется, живой театр! Тартюфы, обтяпывающие свои делишки под маской благочестия, и Журдены, старающиеся непомерной роскошью заставить всех забыть свою убогую юность – разве они не по-прежнему среди нас? Но, к моему удивлению, все (кроме преимущественно прозаика Сергея Носова) отвечали, что Мольер давно утрамбован для них в культурный слой и связи его с живым театром они не чувствуют.
Тем интереснее мне было обнаружить одну и ту же пьесу Мольера сразу в двух известных московских театрах. И пьеса эта – «Школа жен». В Мастерской Петра Фоменко она идет с декабря 2015 года в постановке Михаила Крымова (он же - исполнитель главной роли), а в репертуаре Театра Маяковского представлена с апреля 2021 года в постановке тогдашнего худрука Миндаугаса Карбаускиса.
Ваш обозреватель решил воспользоваться тем, что и он, и театры проводят это лето в Москве, и сходить с интервалом меньше чем в месяц (22 июля – 20 августа) на эти два спектакля, чтобы сравнить их и попытаться понять: что заставило двух столь разных режиссеров обратиться к тому, что, по общему мнению, ушло в историю театра? Шутка ли – времена царя Алексея Михайловича!
Выбор именно этой комедии 1662 года из обширного наследия Мольера неудивителен. Она не только входит в число самых острых и смешных у него, но и считается самой личной. Михаил Булгаков посвятил ей целую главу в своей известной в России всякому театралу «Жизни господина де Мольера». В которой, в частности, пишет:
«"Школа жен", так же как и "Школа мужей", была написана в защиту женщин и их права на выбор в своей любви и рассказывала историю ревнивого и деспотичного Арнольфа, который хотел жениться на юной Агнесе. В этой пьесе, изобилующей смешными комедийными положениями, прозвучал впервые какой-то надтреснутый и горький мотив в роли Арнольфа.
Когда молодая Агнеса в конце пьесы победила и ушла от Арнольфа со своим возлюбленным, исполненный отвратительных и смешных черт Арнольф стал вдруг жалким и человечным.
– Какою мерою измерить мою к тебе любовь? – вдруг, как бы сбрасывая оболочку гнусного ревнивца, страстно восклицал Арнольф. – Как мне, неблагодарная, доказать тебе ее? Заплакать горькими слезами? Или рвать волосы? Быть может, ты хочешь, чтобы я убил себя? Скажи, скажи, чего ты хочешь, и я готов, жестокая, доказать тебе, что я сгораю в пламени!
Некоторые любопытные люди обратили внимание на этот монолог Арнольфа, и иные с сочувствием, а иные со злорадством говорили, что в нем отразились личные переживания господина Мольера».
Но трактуют два театра эту вечную историю о трудностях и опасностях межпоколенческого брака, естественно, по-разному.
«Фоменки», используя классический выверенный перевод Василия Гиппиуса, с наслаждением отдаются, как заповедал их основатель, самой природе лицедейства. Разместив зрительские места высокими «лесенками» по обе стороны маленькой сцены в старом здании, режиссер как бы вернул пьесу Мольера туда, откуда она вышла – в стихию площадного театра. Что подчёркивается и тем, что актеры, разрывая строгий ход рифмованных пятистопных ямбов, порою прямо «из роли» апеллируют к зрителям с вопросами об их семейной жизни и том, как с нею, своей семейной жизнью, следует поступить героям. И, разумеется, постановщик активно использует нестандартное пространство сцены и ее скромную механизацию: прилепленный над сценой балкон, поворотный круг, оказавшуюся сбоку портьеру.
При этом художник по костюмам практически полностью отказывается от игры в XVII век: костюмы лишены какой-либо пышности, о париках нет и помина, а плащи и накидки могут относиться к любой эпохе и любой стране. Зато один из героев, молодой Орас, выпрыгивая на сцену, всякий раз откалывает в качестве приветствия эдакое игривое коленце, – оп-па! – явно восходящее к lazzi (трюкам) персонажей комедии дель арте. Мало того: когда на сцене впервые появляется его отец, почтенный Opoнт, – он неожиданно делает в ответ точно такое же молодецкое коленце. И это вдруг говорит об отношениях отца с выросшим сыном больше длинного диалога.
Театр Маяковского, занимающий театральное здание, в котором выступала еще Сара Бернар – театр классический: глубокая сцена, пышно изукрашенный зрительный зал с партером и высокими ярусами амфитеатров. Но постановка старинной пьесы решена в минималистическом и «кинетическом» ключе. Из всех декораций – периодически выдвигающийся и уезжающий разделенный на три полосы длинный «язык» сцены, костюмы такие же неопределенно-старинные, и главное внимание уделено самому тексту, который проговаривают на светлой сцене тёмные фигуры. И вот тексты-то – главная «фишка» постановки.
Само это неклассическое словечко – как раз в ее духе. Театр заказал сделать современное изложение старинной комедии не кому иному, как Дмитрию Быкову. Который, разумеется, тогда еще не знал, что он окажется включен в список СМИ – иностранных агентов, как и мы не знали доселе о его способности и охоте переводить с французского языка XVII века. Следя, вместе со всей страной, за изменениями в личной жизни Дмитрия Львовича, смеем предположить, что, как и у Мольера, интерес к тематике «Школы жен» оказался у него хотя бы отчасти обусловлен личными причинами, но не будем углубляться в эту зыбкую материю, а просто сравним два фрагмента из начала пьесы в переводе Гиппиуса и Быкова.
Гиппиус:
- Арнольф
- Да, знаю, как не знать!
- Орас
- Он сумасшедший?
- Арнольф
- Э...
- Орас
- Так что ж? Как вас понять?
- "Э", верно, значит "да"? Ревнивец невозможный
- И лгун? Я вижу, слух идет о нем неложный.
- Но я Агнесою порабощен вполне;
- Она – жемчужина, прошу вас, верьте мне,
- А можно ли отдать прелестное творенье
- Такому дикарю в его распоряженье?
Быков:
- Арнольф
- Ну да, слыхал, конечно,
- Хоть всех Ласюсов знать...
- Орас
- Так он вполне ку-ку?
- Как можно уступить ребенка старику?
- Арнольф
- Он все же опекун!
- Орас
- Да ладно, мать честная!
- Ведь он не московит, она не крепостная,
- Она сокровище! Как вспомню этот взгляд,
- И рот, и прочее, о чем не говорят, —
- И чувствую: моя! А он ревнив, и грешен,
- И стар, и самодур, и, кажется, помешан!
Разумеется, герои Мольера не могли упоминать русских крепостных хотя бы потому, что в середине XVII века русские крестьяне еще не были крепостными в том смысле, который вкладывали в это слово во времена Тургенева. Но нелепо требовать от щедро наделенного публицистическим азартом известного современного поэта точного следования каноническому тексту. Конечно, Быков, хоть он и клянется, что «ничего не менял», заметно сдвигает текст «под себя» и насыщает злободневными аллюзиями. Точнее, отыгрывает их как реквизит. Если Орас хвастается, что Агнеса подарила ему ленту (обычный знак девичьей приязни в Европе, см. фильм «Барри Линдон» Кубрика), у Быкова она, разумеется, становится «белой лентой». Если у Мольера один герой упрекает другого в излишней широте нравов (в вопросе о рогах), у Быкова он прямо кричит: «Проклятый либерал!» И это не считая многочисленных словечек вроде вышеприведенного «ку-ку» и невзначай приспособленных к месту школьных цитат из русской классики.
Кому-то это может показаться перебором, но, подытоживая, можно с удовольствием констатировать, что драматурги XXI века лишь отчасти правы, «утрамбовывая» своего давнего коллегу в культурный слой. Мольер по-прежнему «работает», по-прежнему открыт к интерпретациям. Говоря словами Булгакова: «Скажите, он вскрикнул? Он дышит? Он живет».