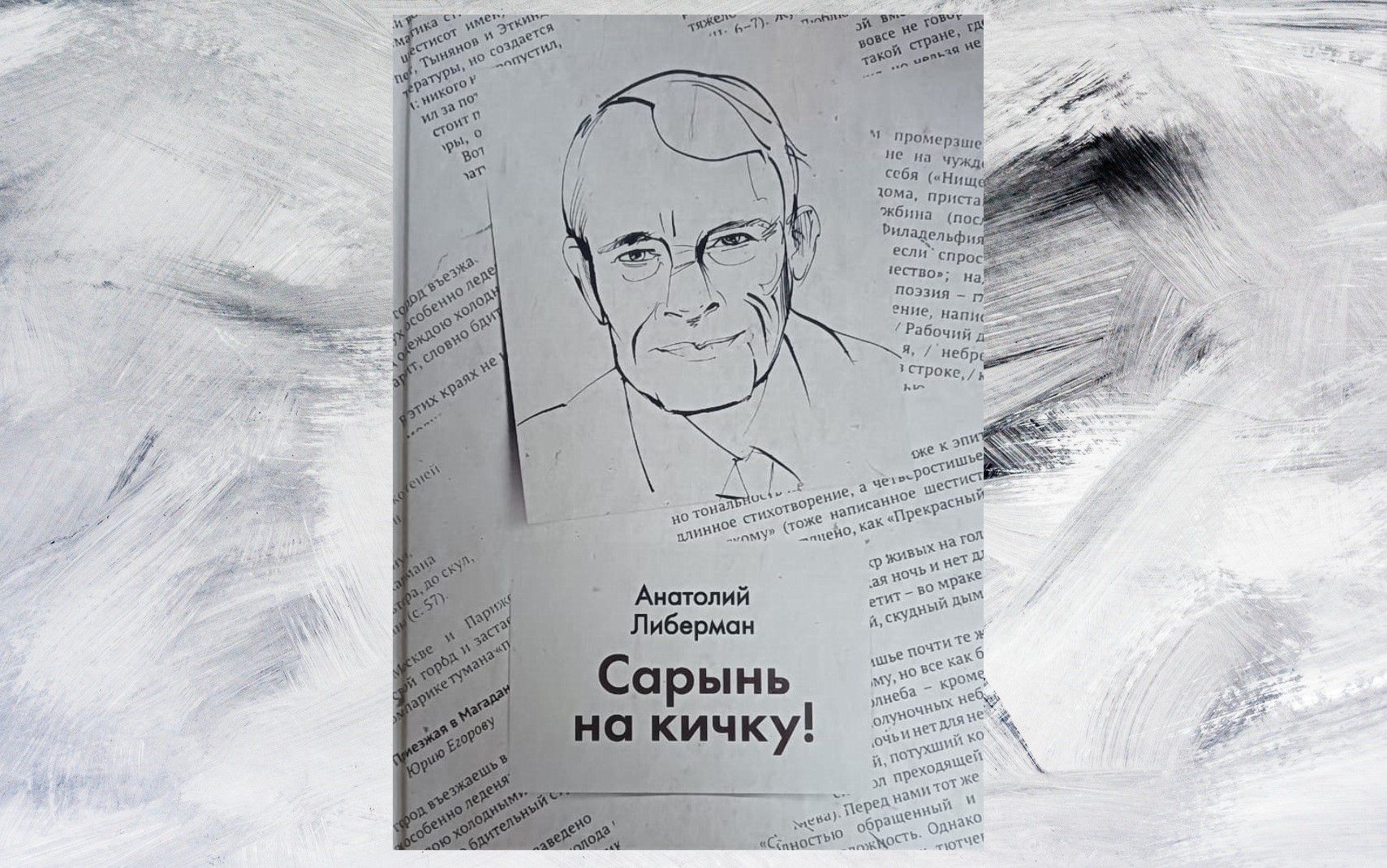Текст: Фёдор Косичкин

Анатолий Симонович Либерман проделал путь из ленинградцев в американцы, типичный для советских интеллигентов его поколения (р. 1937). Отец погиб на фронте, мать - учительница музыки, в школе с упоением читал русскую и английскую классическую поэзию, окончил английский факультет Педагогического института им. Герцена, в 35 лет защитил докторскую диссертацию в Ленинградском политехе... и уперся в стеклянный потолок. Который прошиб в 1975 году, уехав в США. Где и занимается в университете Миннесоты тем же самым - немецкой, скандинавской и, главное, классической русской поэзией: изучает, разбирает, переводит. Только теперь в расчете на людей, для которых сама необходимость этого неочевидна.
Чему Анатолий Симонович и посвятил свою полемическую статью, включенную в авторский сборник с нарочито залихватским названием, вышедший только что в Магадане (!).
Впрочем, Магадан действительно ближе к Миннесоте, чем Петербург.
Соглашаться с задорными постулатами профессора Либермана не обязательно; но они основываются на огромном личном опыте - так что ознакомиться с ними явно стоит.
Анатолий Либерман. "Сарынь на кичку" ("Жизнь и литература")
Магадан: Охотник, 2022
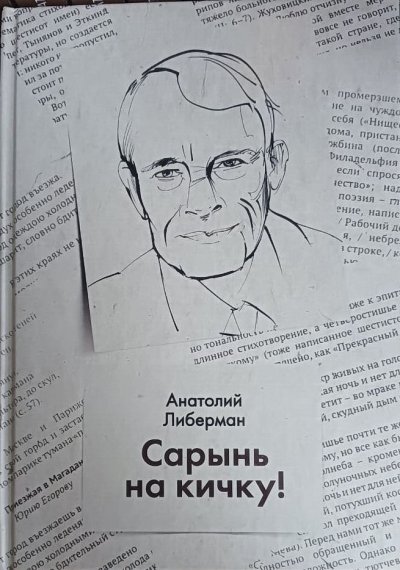
Нужна ли американцам русская поэзия в переводе?
Естественнее, пожалуй, спросить, кому вообще в сегодняшнем мире нужна поэзия как вид литературы. Количество людей, сочиняющих стихи и издающих их за свой счет, непредставимо. Вот только кто их читает? Среди русскоязычного народа писание стихов давно превратилось «в вид недуга». Замечу сразу, что отличить в теории графомана от так называемого настоящего поэта невозможно. Многие великие поэты были подобны непрерывно бьющим фонтанам, а кое-кто (например, Тютчев) писал от случая к случаю, так что объем продукции ни о чем не говорит. К тому же не существует способа определить (и тем более доказать), что какие-то стихи хорошие, а какие-то плохие. Своя продукция обычно нравится; соринки в чужом глазу видны с любого расстояния.
Почти все кумиры со временем тускнеют. Список тех, кто не слинял за века (Шекспир, Гёте, Пушкин), ничтожен. Поэтов второго ряда, даже очень хороших, время смело безжалостно. Некоторых спасала и спасает мода; их долговечность неопределима. Уберегает поэзию от забвения школьная программа. Боратынский, Фет и А. К. Толстой в нее не попали и ушли из поля зрения почти всех, кроме филологов-профессионалов. Если же попытаться сформулировать некоторую закономерность, то она такова: поэзия больше всего нужна поэтам, и в этом ее радикальное отличие от прозы, драмы и особенно музыки. Удачливее других трибуны. Им для славы нужны рекламные фейерверки и стадионы, а еще, конечно, возбудимые юноши и истеричные женщины. Переводная поэзия лишена всех названных выше преимуществ: авторы вырваны не только из своей языковой среды, но и из контекста.
Однако случилось так, что России в этом смысле повезло едва ли не больше, чем любой другой стране. В начале девятнадцатого века своих великих современников переводили гиганты: Жуковский и Батюшков. Так произведения немцев, французов и англичан стали частью русской литературы. В советское время искусство перевода расцвело частично потому, что, не имея возможности печатать свое, выдающиеся мастера добывали средства к существованию переводами, но в авторских сборниках они не печатали чужое вперемежку со своим, и ясно, что Пастернак не стал бы читать переполненному залу переводы из Рильке (а уж отрывки из «Фауста» и «Гамлета» тем более); Лермонтов же, например, смотрел на переводы как на часть своего творчества.
Культура перевода в самые глухие советские годы, вдохновленная примером прошлого, была столь высока, что осталась эталоном на многие десятилетия, но и тогда, и позже стихи зарубежных поэтов читали крайне выборочно. Я не знаю, кто решил объявить переводы Маршака шекспировских сонетов венцом творения. Книгу дарили любимым девушкам и покупали на черном рынке. На Западе подобных чудес не бывает. Стихи приносят доход лишь немногим, а переводами (часто с подстрочников) почти всегда занимались «работяги», и плодами их трудов пользовались в лучшем случае студенты, проходившие курсы типа «Французская (немецкая, русская) литература в переводе». На этих курсах стихи читались, как проза, и об их эмоциональном воздействии не могло быть и речи. Причем когда такие книги попадали в поле зрения преподавателей, это была невероятная удача, так как издательство могло продать сравнительно большое количество экземпляров. Изредка поток положительных рецензий способствовал коммерческому успеху. Так произошло с некоторыми последними переводами на английский язык «Евгения Онегина», о которых речь пойдет ниже.
Чтобы как-то сохранить равновесие между популярным чтивом и серьезными сочинениями, существует система грантов, благодаря которой издают и убыточные книги. Всё же любой автор (в том числе и переводчик) хочет видеть свой опус в руках читателя, а не только в библиографии. К счастью, такое иногда случается. До сих пор есть чудаки, следящие за новинками мировой литературы. К тому же существует утешительный афоризм, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Кто же этот чудак, который и в наши дни читает оригинальные и переводные стихи? Какой поэзии он ждет?
Уже сто лет в англоязычных странах пишут почти только свободным стихом (верлибром). Графически он отличается от прозы лишь тем, что записан столбиком, а интонационно — потребностью или необходимостью сделать паузу там, где в разговоре ее бы не было, то есть, как общее правило, в конце строки. Этот речитатив — странное изобретение. Испокон века поэт, как музыкант и спортсмен, должен был овладеть определенной техникой. На обучение певца-сказителя (рапсода, древнеанглийского скопа, гусляра, «вещего Баяна», ашуга, акына, якутского олонхосуты) уходили годы, но им, конечно, надо было освоить, кроме искусства импровизации, еще и обширный репертуар.
Поэт нового времени овладевал размерами и рифмой и, в принципе, не отличался от своих древнегреческих и латинских предшественников с той лишь разницей, что в классических языках не рифмовали, а учитывали долготу слогов. Как всем известно, искусство держится не только на технике. Можно виртуозно рифмовать и блестяще играть самые сложные пассажи, не вызывая у аудитории ничего, кроме скуки. Объяснить или доказать, что поэма, картина или симфония хорошая, невозможно. Анализ формы вскрывает механизм ремесла, а не творчества. Тем не менее, хотя врач никого не вылечит, только усвоив тонкости анатомии, не зная анатомии, он работать не может. Поэт проникает в «анатомию стиха» интуитивно, читая и слушая других поэтов, а впоследствии (пусть не всегда, но часто) начинает смотреть на вещи со стороны, то есть научается и в теории отличать ямб от хорея и даже от дактиля. К тому же всегда есть традиция, а часто и «союз поэтов».
Сочинителю же свободного стиха не нужно знать ничего, и отсутствие каких бы то ни было технических ограничений оборачивается для него величайшей опасностью: надо декламировать ничем просодически не спаянные строки так, чтобы они произвели впечатление. Для этого приходится произносить нечто глубокое и неожиданное, но даже самому находчивому и остроумному человеку едва ли под силу выдавать страницу за страницей блестящих афоризмов и заставляющих задуматься строк. Свободный стих — искус для непосвященных, и таких непосвященных сотни.
Их основное орудие — деланное глубокомыслие и выставляемая напоказ ирония, то есть человек говорит белое, но исхитряется сказать это так, чтобы все поняли: на самом деле он имеет в виду черное. Хотя при помощи интонации и подмигивания этот подтекст иногда можно донести до аудитории, текст, как правило, выглядит убого. Парадокс состоит в том, что сочинение хорошего свободного стиха посильно лишь выдающимся мастерам, а такие, естественно, наперечет.
Выросло много поколений американцев, которые уверены, что свободный стих — это не просто единственная истинная поэзия, но что вся остальная поэзия — сплошное занудство. Кто в жизни говорит в рифму? К чему этот выверт? Между прочим, той же мысли придерживался не только один из персонажей Зощенко, но и Лев Толстой, хотя он делал исключение для Пушкина и некоторых строк Тютчева и Боратынского (но он так же относился к опере и, скорее всего, к балету: всё это — кривляние и притворство). Моих студентов изумило бы убеждение во всем изверивавшегося и разочаровавшегося Боратынского:
- Среди безжизненного сна,
- Средь гробового хлада света
- Своею ласкою поэта
- Ты, рифма! радуешь одна.
- Подобно голубю ковчега,
- Одна ему, с родного брега,
- Живую ветвь приносишь ты;
- Одна с божественным порывом
- Миришь его твоим отзывом
- И признаешь его мечты!
- («Рифма»)
Писать верлибром учат, начиная с младших классов, сознательно и планомерно отвращая от рифмы, хотя дети любят только лимерики, рифмованные прибаутки, считалочки и т. п., которые мгновенно запоминаются и передаются из поколения в поколение. Я читал множество стариковских высокопарных вирш, написанных детьми и подротками, но приведу стихотворение взрослого человека, напечатанное летом 2016 года в маленькой провинциальной газете в Миннесоте. Оно интересно тем, что оно именно такое, какое нынче и ожидается. Я постарался сделать почти дословный перевод.
- Хрупкая береза поддалась,
- Сильные северные ветры наводят на мысль о застылости,
- Могучие дубы стоят негнущиеся и неподдающиеся,
- Вызов рдеет на клене,
- Еще намекая на жизнь, прячущую зеленые листья,
- Только стоические сосны не меняются,
- Жизнь и смерть проходят мимо
- Гигантского северного часового,
- Зеленые листья скоро будут одеты чистотой,
- Белизна затмит разноцветную палитру,
- Осень простирается над беспокойной землей,
- Хмуро ожидая успокоения,
- Она мягко упадет ей на грудь,
- Уложив все существа в колыбель морозного сна.
Если прочесть этот текст «с выражением», как учили нас в детстве, то создастся иллюзия лирического переживания. Но это обман: перед нами не «чувство», а его суррогат. «С выражением» и паузами (или вздохами) можно прочесть почти любое описание природы, и оно прозвучит, как «стихотворение в прозе». Для производства такой поэзии достаточно овладеть начатками мелодекламации. Стать скрипачом или пловцом несравненно труднее.
Однажды на лекции по средневековой литературе я высказал свое мнение о современной поэзии и сказал, что на ходу могу сочинить трогательную импровизацию на любую тему. Вот, например, на стене висят часы. Не угодно ли прослушать экспромт? И я с ходу произвел двухминутный шедевр на задумчивой интонации и с большим количеством недомолвок и недоговоренностей, чтобы было ясно, как много бы я еще мог сказать, если бы пожелал. Слушатели веселились от души, но назавтра я получил письмо от одного студента, который рассказал о моем цирковом представлении своей подружке, и та с полной определенностью объяснила ему, что профессор — ретроград, что метрически организованная поэзия — устарелый мусор и что слушать меня не надо. Я поговорил с ним, но в дискуссию не вступил, предоставив отзывчивому юноше самому решать, где истина, ибо давно знаю, что одному нравится попадья, а другому — свиной хрящик.
Но по двум причинам отмахнуться от той прогрессивно мыслящей девушки невозможно. Во-первых, что бы она ни думала, перевод ведь делается для нее. Если воспроизводить рифму, метрику и «звуковые эффекты» оригинала, она может закрыть книгу на первой же странице. Знает это и издательство, которое мертвый, заведомо безнадежный товар не выпустит. Во-вторых, перевод, например, «Евгения Онегина» без онегинской строфы, а Маяковского без рубленых строк и головокружительно изобретательной рифмы — жульничество. К этому прибавляется еще одно, само собой разумеющееся обстоятельство. Сделать грамотный подстрочник — дело нехитрое, а воспроизвести оригинал, чтобы получился «английский Пушкин» (или кто угодно другой из больших поэтов), трудно и не всегда возможно. Типично английская сложность состоит еще и в том, что в русском стихе чередуются мужская рифма (ударение на последнем слоге: ночь-прочь), женская (ударение на предпоследнем слоге: правил-заставил) и дактилическая (ударение за два слога от конца: ресторанами-пьяными). В английском дактилической рифмы почти нет, а женская есть (table-able, keeper-weeper, doing-wooing), но ее несравненно меньше, чем в русском, потому что русские существительные и глаголы часто наращивают слог при изменении (кран-крана, был-были), а английские обычно так и остаются односложными (day-days, say-said), и выручают лишь слова типа nose-noses, hate-hated, big-bigger и формы на ing. Кроме того, есть множество исходно двусложных слов вроде candid, writer и т. п.
В английской поэзии мужская и женская рифмы чередуются не так уж редко, но это чередование предполагает некоторую долю виртуозности. Следовательно, сохранить русскую просодику в английских переводах затруднительно, но можно. Вопрос состоит в том, нужно ли. Переводят русскую поэзию на английский издавна, и для многих, занимавшихся этим делом, русский язык был, как и для меня, родным. Почти никто из них не мыслил отказа от размера и рифмы оригинала. Но, как сказано, возможности английского языка в этом смысле несколько ограничены. Виртуозность для того и требуется, чтобы женская рифма выглядела естественно (как, например, у Байрона и Шелли), чтобы в угоду ей не пришлось сочинять отсебятину, то есть чтобы стих лился свободно, а читатель не заметил усилий переводчика.
Здесь дело обстоит, как в музыке. Приведу один пример. Появившись в Большом театре в роли дирижера, Рахманинов оказался весьма суровым критиком, а Нежданову спросил, почему она поет немыслимо трудную «Арию с колокольчиками» из «Лакме» Делиба в облегченном варианте. Удивленная Нежданова ответила, что поет то, что написано. Но ее ария была настолько лишена какого бы то ни было напряжения, что «сам» Рахманинов обманулся. К такому идеалу и надо стремиться. Возвращаясь к стихам, замечу, что у русскоязычных переводчиков «облегченный вариант» получался далеко не всегда. У них порой возникали нелепые слова и наивные рифмы.
Англоязычные же переводчики подходили к делу по-разному. Кое-кто отказывался от рифмы «из принципа» («наш читатель этого не поймет»), а на самом деле, не желая затруднять себя. В других случаях рифма соблюдалась, но сплошь мужская. Что же касается таких невероятно трудных поэтов, как Хлебников и Маяковский, то здесь никто, кажется, и не ставил перед собой сверхзадач: этих авторов и прозой пересказать невероятно трудно (хотя кому нужны футуристические стихи, изложенные вежливой, незамысловатой прозой?). Зато повезло упомянутому выше «Евгению Онегину». Современным переводчикам было ясно, что надо либо сохранить онегинскую строфу, либо за это произведение и не браться. И оказалось, что пушкинский роман можно воспроизвести по-английски. Существует несколько сравнительно недавних переводов, и видно, что успех достижим.
Здесь требуется небольшое примечание. Русская и английская стихотворная просодика не идентичны, но сопоставимы. Поэтому и возможен перевод, а не только пересказ. Но поскольку греческий и латинский стих построен на чередовании долгих и кратких слогов, а в современных языках эквивалентов им нет, то, слушая или читая Гомера ли, Овидия ли, мы не можем реагировать на них так, как реагировали их современники. Замены кратким и долгим слогам придумать невозможно (рифма только углупила бы перевод). Древнегерманская поэзия основывалась на таких же долготах и на повторе начальных согласных (аллитерации). Кое-кто из современных переводчиков аллитерацию в «Беовульфе» и прочих памятниках этого типа сохраняет, но наши современники плохо слышат повторы типа: «Долго правил твердыней данов Беовульф датский», — и не вполне ясно, стоит ли их сохранять. Однако рифма в современных языках есть. Верлибр ее устранил, но не отменил.
Взявшись за перевод русской классики, я принял за аксиому, что сохраню просодическую и звуковую структуру оригинала. Но для начала скажу несколько слов о том, в какой мере я был готов к столь дерзкому предприятию. Я родился и прожил почти полжизни в Ленинграде. Стихи (естественно, по-русски) я писал с раннего детства, а по-английски сочинял только безделушки ко дням рождения тех, кто меня об этом просил, и к студенческим капустникам. Заниматься английским я начал с десяти дет с приходившими домой учительницами. Учили меня на редкость скверно (но всё же не совсем без пользы), пока я уже почти взрослым не попал к преподавательнице высокого класса. Почему я однажды решил перевести детский стишок на русский, я уже не помню: видимо, знал, что такой вид деятельности существует. Переводил я кое-что и позже. Никто мне советов не давал, и я не догадывался, насколько наивными, даже жалкими были мои потуги.
В ленинградский университет меня не приняли, и я поступил на английский факультет Педагогического института (ныне университета) имени Герцена. Там я показал лучшее, что у меня имелось, специалисту, и он на ходу объяснил мне, что и как надо делать, и посоветовал летом попереводить Кольриджа и Р. Л. Стивенсона. Ума не приложу, почему он назвал именно этих поэтов. Какими бы соображениями он ни руководствовался, с того момента началась моя полупрофессиональная деятельность переводчика и, начавшись, почти сразу заглохла. Я не пошел в переводческий семинар (в городе таких семинаров было два: для прозаиков и для переводчиков) из-за крайне неудобного расписания занятий в институте и беготни по частным урокам (рынок для обучения детей и взрослых английскому языку был необъятен).
Вернулся я к переводу через много лет. Мне удалось опубликовать в журнале «Север» (Петрозаводск) несколько сонетов Шекспира и подборку из стихотворений современного исландского поэта Йоуна Хельгасона. Перевел я еще «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда, но она увидела свет лишь в моем единственном поэтическом сборнике «Врачевание духа» уже в Америке, куда я уехал в 1975 году.
В СССР меня ждала карьера переводчика с древнеисландского (был даже подписан договор). Однако я всё бросил, и так называемые королевские саги (проза и стихи) после моей эмиграции перешли к другим людям, которые всё сделали наилучшим образом. Переводить в Америке что бы то ни было на русский казалось мне бессмысленным занятием, но, обжившись, я сблизился с эмигрантскими изданиями, которые напечатали еще ряд сонетов, а также несколько мелочей с немецкого и со среднеголландского. В 2015 году в Москве, в «Языках славянских культур» вышел мой перевод всех сонетов Шекспира.
Литературоведы бесконечно обсуждают вопрос, должен ли переводчик стихов быть поэтом. Дискуссия на эту тему не представляется мне интересной. Даже когда за переводы берутся крупные поэты, между двумя величинами может сохраняться огромная дистанция. Кто же равен Данте, Шекспиру, Байрону, Пушкину? Тем не менее человек, надумавший заниматься поэтическим переводом, если он не совершенный халтурщик, наверно, какое-то отношение к поэзии все-таки имеет. А что у него получится, предсказать невозможно.
В Америке я получил место профессора в Миннесотском университете и начал переводить на английский почти сразу после приезда в Миннеаполис; в этом городе и расположен университет. Всего естественнее для меня сочинять и переводить стихи, гуляя, и случилось так, что мы поселились в пределах пешего хождения от места моей работы. По дороге туда и обратно я сочинил и перевел всё, что издано и подготовлено за последние сорок с лишним лет. Моим первым автором был Лермонтов, так как почти всю его лирику я знал наизусть. Был я неопытен и с ходу наделал много глупостей. Кроме того, хотя я свободно писал по-английски, вопросы возникали на каждом шагу.
Я с семнадцати лет читал английских романтиков, так что стиль и настрой той эпохи были мне знакомы. Вопрос о рифме и размере передо мной не стоял. Я следовал за оригиналами, а об отношении американцев к старой метрике не подозревал и не отдавал себе отчета в том, что в англоязычном мире Байрона, Шелли и Китса читают, кроме специалистов, только немногие студенты, да и то из-под палки. Богатейший словарь этих поэтов непосилен для нынешних выпускников средней школы (и не для них одних!), и я попал в нелепое для иностранца положение: выяснилось, что я употребляю много слов, которых уже почти никто не понимает, хотя речь шла о девятнадцатом, а не о восемнадцатом или более раннем веке. Впоследствии я таких слов стал избегать.
Переводчик, как стихов, так и прозы, должен быть хамелеоном. Пастернака упрекали в том, что его Шекспир, Гёте и все прочие в русском варианте получились похожими на него самого. Я думаю, что эти упреки, если даже и справедливы, то напрасны. Конечно, Пастернак писал своим языком, а каким же еще он мог писать? Но мне, переводившему на неродной язык, надо было избегать другой опасности: мой Лермонтов не должен был стать ничьей тенью; Байрон в англоязычном мире уже был и без меня («Нет, я не Байрон, я другой»).
Позже я перевел почти всю лирику Тютчева и Боратынского, и задача моя усложнилась, достигнув пастернаковских высот. В оригинале эти три поэта, хотя и жили в одно и то же время, не были похожи друг на друга ни лексически, ни интонационно (несмотря даже на то, что Лермонтов многое заимствовал у Боратынского), ни, главное, в синтаксисе. Такими они должны были остаться и в переводе. У них был общий фонд расхожих рифм (ты-красоты, любовь-вновь-кровь, нежный-мятежный-небрежный), который, естественно, погибал в переводе, и они легко рифмовали без опоры на согласный (густые-былые, мой-тоской, мною-успокою), но у каждого были и многочисленные индивидуальные находки, то есть рифмы, которые нельзя было переносить из одного собрания в другое. Читателям до всех этих тонкостей дела нет (да и где они, эти читатели?), но я-то понимал, что прикоснулся к великой поэзии, обращаться с которой надо деликатно.
Хотя русскую поэзию, и классическую, и современную, переводили на английский язык неоднократно, то, что я обнаружил, мне решительно не понравилось. Были и удачи, но даже в лучшем случае никто бы не сказал: «Какие прекрасные стихи!» В поэзии ведь главное не тема и не идея, а неповторимо соединенные слова. Если нужные слова найдены, то кажется, что и мысль глубока.
- Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
- Что говорит не с чувствами — с душой;
- Есть что-то в ней над сердцем самовластней
- Земной любви и прелести земной.
- (Боратынский «Она»)
«Она» Боратынского — восхищавшая его женщина, но те же слова приложимы к поэзии. Сюда же относится в хруст зацитированное признание Лермонтова:
- Есть речи — значенье
- Темно иль ничтожно,
- Но им без волненья
- Внимать невозможно.
Поскольку таких переводов русской классической поэзии (лирики), чтобы они были красоты прекрасней и чтобы ей было без волненья внимать невозможно, в библиотеках не оказалось, я самонадеянно бросился в бой.
Переведя около двадцати стихотворений Лермонтова, я начал устраивать публичные выступления всюду, где мог (прежде всего в университете). Потом прибавились и другие авторы. Лермонтов необычайно «эстраден»; его стихи прекрасно звучат со сцены. Тютчев и Боратынский — полная ему противоположность: сколько их ни вставляй в хрестоматии, они не утратят своего камерного характера, но кое-что удавалось выбрать и из них. Иногда приходило до пятидесяти человек (а то и больше), а в какой-то злосчастный вечер, когда запланированный и объявленный Бродский, презрев самолетный билет и большой гонорар, не появился в одном частном колледже, организаторы умолили меня занять его место. Пришла гигантская толпа (кажется, ожидалось, что он произнесет речь и почитает стихи — не знаю, на каком языке). Треть, узнав, что Бродского не будет, повернула назад, но и двух третей хватило, чтобы заполнить большой актовый зал. Там я читал и кое-что из Тютчева.
У меня хорошо поставленное британское произношение середины прошлого века, то есть с американской точки зрения акцент, но более или менее привычный и «почтенный». Английский же язык Бродского, когда он говорил на публику, понять было весьма трудно, так что в этом смысле я оказался в лучшем положении, чем он, но в остальном только любезности оставшихся я был обязан тем, что не выступал в пустом зале. В моих краях публика, в принципе, доброжелательна, но я-то всегда обращаю внимание не на комплименты, а на выражение лиц, улыбки, сострадание в трагических местах. Мне, как андерсоновскому соловью, достаточно слез на глазах слушателей. И где бы я ни читал переводы, а читал я и в Бостоне, и в английском Оксфорде, их всюду воспринимали прекрасно. Американцев и англичан не раздражали ни традиционные размеры, ни рифмы. Люди, не знавшие ни одного слова по-русски, реагировали на монологи Арбенина не хуже, чем много позже реагировали на мои переводы сонетов Шекспира в Петербурге и Москве.
Конечно, отсюда не следует, что те же люди взяли бы с полки стихи Лермонтова и Тютчева. Но они ведь и свою классику не читают, и даже Шекспир держится не изданиями, а постановками, фильмами и осколками программ тех университетов, в которых «Отелло» еще не заменили современными фильмами о вреде расизма. В программу «Русская любовная поэзия» я включил всех троих (Лермонтова, Тютчева и Боратынского), добавив кое-что из Пушкина, которого переводил очень мало. Результат был таким же, как с Лермонтовым. Я пришел к выводу, что русскую поэзию переводить на английский язык стоит. Кстати, уровень существующих переводов русского Золотого века на немецкий, французский и итальянский несравненно выше, чем на английский, но в тех языках женская рифма — норма.
«Лермонтов» был издан моим университетом в 1983 году, хорошо разошелся, и хвалебные рецензии на него появились во всех славянских журналах англоязычного мира и (что большая редкость) во всех ведущих газетах. «Тютчев» вышел в свет на десять лет позже в частном издательстве и шума не наделал (имя поэта никому ничего не говорило), но в специальных журналах хорошо оценили и его. Замечу, что ни один рецензент не пожаловался на сохранение размера и рифмы. Некоторые даже удивлялись, как такое возможно, будто речь шла не о поэзии, а о цирковом номере. «Боратынского» опубликовали в 2021 году, и пока появилась только одна рецензия, покровительственно положительная. Но кто такой Боратынский? Для сравнения скажу, что не так давно в Москве выпущено его трехтомное академическое издание. Последний том напечатан тиражом сто экземпляров. Это в России... Но, как заметил Сирано де Бержерак, «сражаются не только для победы». Мы бросаемся в бой ради сохранения мировой культуры в век торжества дикости. Поэтому, возвращаясь к заглавию этой статьи, я без колебания отвечаю: «Да, нужна».