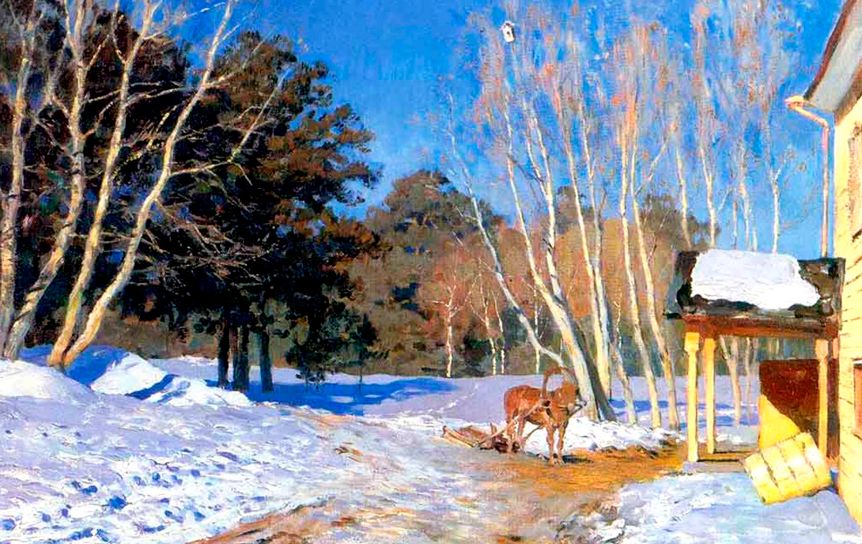Текст: Дмитрий Шеваров/РГ
Вместе со своим старшим братом Константином Иван Аксаков стал олицетворением славянофильства - самого мощного движения отечественной мысли. Но в отличие от брата - книжника и кабинетного философа - Иван не искал будущего для России в прошлом. Иван прямо писал родным: "Ни одного скверного часа настоящего я не отдам за прошедшее..."
Он не видел идеала мироустройства в крестьянской общине и в реанимации патриархальных обычаев допетровской Руси. Иван слишком хорошо знал жизнь. Русских крестьян он наблюдал не из окна усадьбы, а лицом к лицу.
В ностальгии по старому укладу Иван видел лишь безволие души и лень ума. Нет, он не был циником. Просто считал, что опасно идеализировать какое-либо общественное устройство, пусть даже самое замечательное. "Государство, конечно, необходимо, - говорил Аксаков, - но не следует верить в него как в единственную цель и полнейшую норму человечества..."
Нельзя, считал Аксаков, обожать и властителей - будь то прошлых или нынешних, ведь христианин знает, что даже власть законная, от Бога, неминуемо искажается падшим человеком, подтачивается его грехами.
Лучшим лекарством от тоски по минувшему Иван считал жизнь, полную трудов, новых встреч и путешествий. "Вместо того, чтоб жечь волосы об огонь церковных свеч и стукаться головой о паникадилы, - писал Иван в одном из писем родным, - я, мужчина, не терял бы времени, и если уж так соболезную я народным бедствиям, то объездил бы нашу Россию, узнал бы действительные народа нужды..."
Сам Иван Сергеевич за несколько лет объехал со служебными поручениями Поволжье, Калужскую губернию, Бессарабию, Малороссию, Пошехонский край.
Умственная дисциплина и духовная трезвость не сделали Ивана холодным рационалистом. В поэзии - а он с отрочества писал стихи - Аксаков был романтиком. К своему литературному призванию Иван относился со всей ответственностью за врученный ему Божий дар. Когда в феврале 1851 года министр внутренних дел указал чиновнику по особым поручениям Аксакову, что занятие стихотворством "неприлично человеку служащему, облечённому доверием правительства", Иван тут же вышел в отставку.
Романтиком он оставался и в любви. До сорока двух лет Иван Сергеевич искал женщину, которая могла бы стать вторым крылом для его души, верным другом, разделяющим не только его горести и радости, но и его философские и политические воззрения.
Влюбившись в дочь Тютчева, 36-летнюю Анну Федоровну, он признавался ей, что до их встречи "попадал на такого рода женские существа, которые противоречили мне, моим убеждениям, моему идеалу и которые я дерзко хотел вести к добру, но которые меня вели ко злу. Я наконец нашел себя - знаете ли Вы в ком?.. в Вас. Вот где душа моя обретается не в диссонансе, а в гармонии.., вот любя кого - я могу остаться в истине, в правде, в согласии с самим собой, могу укрепиться в вере. Обыкновенно смотрят на религию, как на "утешение в скорбях", как на богадельню для увечных и всяких духовных инвалидов... Бог - есть не только утешение, но сила на подвиг, труд, деятельность..."
Он всегда спешил на помощь людям - это было его ежеминутное состояние. Во всем, что происходило с Россией в середине ХIХ века, он участвовал, никогда не оставаясь лишь свидетелем. Он всегда смотрел на происходящее изнутри, из эпицентра событий.
Не мог он остаться в стороне и от той беды, что обрушилась на Россию 170 лет назад: в 1853 году началась Крымская война. 14 июня русские войска по приказу императора Николая Первого вступили в княжества Молдавию и Валахию, которые по Адрианопольскому договору 1829 года числились под протекторатом России, но фактически находились под властью Турции.
Турки потребовали вывести войска. Николай Первый отказался, заявив, что считает своим долгом покровительствовать всем православным в Турции. В ответ в октябре 1853 года Турция объявила войну России.
Наши дипломаты уверяли государя в том, что благородная цель защиты православных найдет понимание на христианском Западе, но все произошло с точностью до наоборот. Запад сразу занял сторону Турции. Франция и Англия, доселе имевшие мало общих интересов, объединились для борьбы с Россией.
Тем временем в Москве и Петербурге светская жизнь продолжалась по прежнему распорядку. Война была далеко, повод к ней для большинства был не вполне ясен. Разгоралось противостояние медленно, слухи о мирной сделке постоянно витали - так что никто и не предполагал, что через год в войну так или иначе втянется вся Европа.
Иван Аксаков был одним из немногих, кто с первых дней конфликта понимал всю серьезность положения.
Нет, он не стал обличать услужливых сановников, которые не видели дальше своего носа и сделали государя заложником неверной информации. Не требовал он и патриотизма от друзей и знакомых, не размахивал руками в гостиных. И уж, конечно, Аксаков не злорадствовал над несчастным положением, в котором оказалась Россия; не припоминал нанесенных ему когда-то обид.
Иван Сергеевич был убежден в том, что только разделив все тяготы со своей родиной и своим народом, гражданин получает право предъявлять счет государству.
А ведь обижаться Аксакову было на что: его и арестовывали по невнятному обвинению, и подвергали тайному надзору, лишали права заниматься редакторской деятельностью, цензура запрещала его стихи и статьи.
Но все это Аксаков отодвинул в сторону, и тихо, никому не говоря, принялся добиваться отправки в армию.
В феврале 1855 года он был назначен штабс-капитаном в 111-ю Серпуховскую дружину ополчения. Даже близкие узнали об этом только из газеты, где печатались списки записавшихся в ополчение дворян.
Вскоре Аксакова поставили руководить тыловой службой Серпуховского ополчения. Он отвечал за питание, обмундирование и размещение сотен ратников.
О том, что было дальше, пусть вам расскажут письма Ивана Сергеевича. Он писал их домой почти каждый день. Не все доходили до Москвы, не все сохранились до наших дней. Но те, что сохранились, рассказывают нам правду. И не только о том, что было. Письма великого человека - будь то Пушкин, Чехов или Аксаков, - проходя через наше сердце, оказываются письмами о том, что происходит здесь и сейчас.

Письма из ополчения
"Получили мы предписание выступить 10-го июля..."
Возвещение опасности
8 апреля 1855 года. Москва.
О Севастополе новых сведений нет. Я не согласен с Константином насчет вступления в ополчение. Мира не будет, и ополчение будет играть немаловажную роль. Вступать в ополчение не значит согласиться на разыгрываемую комедию, а значит изъявить готовность участвовать в опасностях, угрожающих России, чьей бы виной они ни были навлечены...
...Может быть, опасность не кажется еще столь близкою, может быть, ты винишь в опасности само правительство, может быть, ты не сочувствуешь политике правительства... Покуда ты так рассуждаешь, враг нагрянул на Россию и разорил ее пограничные области.
16 апреля 1855 года. Серпухов.
На моих руках хозяйство целой дружины: снабжение людей провиантом, лошадей фуражем, прием и хранение амуниции, вещей, размещение, счетоводство, ведение бесчисленного множества книг, табелей и ведомостей... Ратников принято с лишком 600 человек... Сам я никогда не видал рекрутского набора... Теперь я познакомился и с этим явлением... Зрелище это довольно отвратительно, и в первые дни утомляло меня нравственно донельзя. Представьте себе тесные, грязные комнаты, набитые голыми людьми, ждущими своего приговора...
3 июля 1855. Серпухов.
Получили мы предписание быть готовыми выступить 10-го июля, место стоянки Козелец Черниговской губернии... Не понимаю этого равнодушия к ополчению... Хоть бы полюбопытствовали взглянуть на вид этих людей в русском зипуне, с топорами, на людей, которые все же идут на опасности, из которых, может быть, и половины не вернется.
Переход длиной в полторы тысячи вёрст
10 июля 1855. Серпухов.

Все приготовления к походу касаются собственно одной хозяйственной части и потому все они лежат преимущественно на мне... Прощайте же, милые отесинька и маменька, простите мне и благословите меня заочно, но от всей души!.. поход, поход! и все дают этому слову особенный смысл, и все к нему неравнодушны. Все сбираются, прощаются, пишут завещания!..
26 июля 1855. Калуга.
Мне нравится это медленное, тихое, но безостановочное движение вдаль и вдаль; сзади на нас напирают 45 тысяч войска. Все ополчения теперь двинулись, заколыхались сотни тысяч людей, и по всем дорогам теперь топот и говор идущих масс.
2 сентября 1855. Борзна
В Малороссии нас встречают несравненно лучше, чем в России; почти везде священники с крестом, иконами и хоругвями выходят навстречу с толпою любопытствующего народа; впрочем, и в домах жители, особенно хозяйки с женскою заботливостью заранее нагревают комнаты, приготовят постели и настряпают всякой всячины, в их глазах мы сначала являемся довольно интересными людьми, усталыми бедными путниками, отправляющимися на такое страшное дело (Боже! Як страшно!) как на войну... Наши ратники остаются совершенно бесчувственными к этой внимательности.., как жадные волки на овец - бросаются на горилку, напиваются пьяны до безобразия. Разумеется, слова мои не относятся ко всем ратникам, многие ведут себя прекрасно, но вообще можно заметить, что в тех, которые были отданы <в солдаты> за скверное поведение, прежние элементы опять пробуждаются и выплывают наружу...
Прощайте, уже 1 час ночи, а меня поднимут часа в 4.
5 сентября 1855. Нежин.
...Так наконец Вы видели ополчение... Понимаю, вполне понимаю Ваши впечатления. Жалость, которую испытали Вы, не раз испытываю и я, смотря на наших ратников. Перестреляют их французы всех, как куропаток. Все они жертвы, но жертвы необходимые... Без приносимой теперь жертвы, очевидно, не вразумится Россия.

Душевные тиски
6-го октября 1855. Балта.
...Все лгут, лгут для удовлетворения требований официальной лжи, какого-то страшного чудовища, именуемого в России порядком и снедающего Россию. Я в этом отношении очень плохой казначей и еще не искусился настоящим образом лгать в порядке, т.е. выводить в книгах небывалые расходы, но без этого нельзя, пожалуй, подвергнешься взысканию.
14 октября 1855. Тирасполь.
Севастополь пал не случайно; он должен был пасть, чтоб явилось на нем дело Божие, т.е. обличение всей гнили правительственной системы... Видно, еще мало жертв, мало позора, еще слабы уроки.
На станции Малоешты спросил я старика, содержателя лошадей, что нового? Он отвечал мне: "Наши батьки-казаки с Суворовым брали Очаков, а теперь Очаков сдают... Видно, люди не те стали, да и Суворова нема!"
23 ноября 1855. Бендеры.
Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России... Не гожусь, не гожусь в квартирмейстеры, в казначеи, не гожусь, потому что не всегда выносишь эти душевные тиски...
В военном ведомстве воровство в тысячу раз сильнее, чем в гражданском... Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтоб сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого, законного!
Ратники
8 декабря 1855. Бендеры.

Странная, странная война! Ратник, которого я брал с собою в дорогу, едучи в Кишинев, мужик лет 50-ти, рассказывал мне со слезами на глазах, что у него 7 человек детей, один другого меньше, что жена его умерла месяца два тому назад, как известило его письмо, полученное им в Одессе, что дети его ходят по миру. Приходил также осведомляться, нет ли письма, ратник из плотников, и, утирая кулаком слезы, говорил про детей, им оставленных... Если вообразить себя на их месте.., так, кажется, повесился бы или спился бы с горя.
25 января 1856. Бендеры.
Вы, вероятно, как и вся Россия, взволнованы слухами и даже известиями о мире... Я все же убежден, что мира не будет, что Россия опозорится новыми уступками, а мира ей не дадут...
29 февраля 1856. Бендеры.
Как ни тяжка была для меня служба, но я нисколько не раскаиваюсь в том, что поступил в ополчение... Одно уже то, что приходится целый год жить в обществе людей не только не симпатичных, но скорее антипатичных.., много воспитывает человека: поневоле отыскиваешь в каждом из них какую-нибудь человеческую, добрую сторону.
7 марта 1856. Бендеры.
Слухи вновь неблагоприятны миру, и ратники наши, уже видевшие на небе разные знамения "к любви, к миру" (белые круги около месяца и т.п.), опять повесили носы.
19 августа 1856. Симферополь.
Я видел много раненых. Солдаты отзываются с большими похвалами, уважением и благодарностью о милосердных сестрах, т.е. о сестрах милосердия, особенно же о некоторых, говоря, что они были просто как матери родные... Судя по рассказам, какое бывало утешение из грубых рук фельдшера попасть в женские руки, на кроткие и терпеливые попечения!
17 сентября 1856. Николаев.
Кроме небольшого кружка людей, так отдельно стоящего, защитники народности или пустые крикуны, или подлецы и льстецы, или плуты, или понимают ее ложно. Будьте, ради Бога, осторожны со словом "народность и православие". Оно начинает производить на меня то же болезненное впечатление, как и "русский барин", "русский мужичок".
Вместо послесловия
Я писал это письмо, выжидая, пока стихнет страшный ветер, мешающий нашей переправе с южной стороны на северную сторону Севастополя, чтобы осмотреть кладбище русское и новую церковь. Не дождавшись, мы решились отправиться в объезд, мы доехали до кладбища уже в 8 часов вечера. Какое сильное, глубокое оно производит впечатление. Тут и генералы, и солдаты... И много их, этих белых плит. Это кладбище павших или умерших - не за себя, а за нечто высшее.., не с заботами о своем личном духовном спасении, а с заботами о спасении отечества, родной земли, повергая участь своей души милосердию Божию...
Прощайте. Христос с Вами... Прощайте же, тихое счастье мое.
И.C. Аксаков - А.Ф. Тютчевой. 3 июля 1865 года, 11 часов вечера, Севастополь
P.S.
Иван Аксаков умер от сердечного приступа 8 февраля 1886 года. Похоронен на кладбище Троице-Сергиевой Лавры.