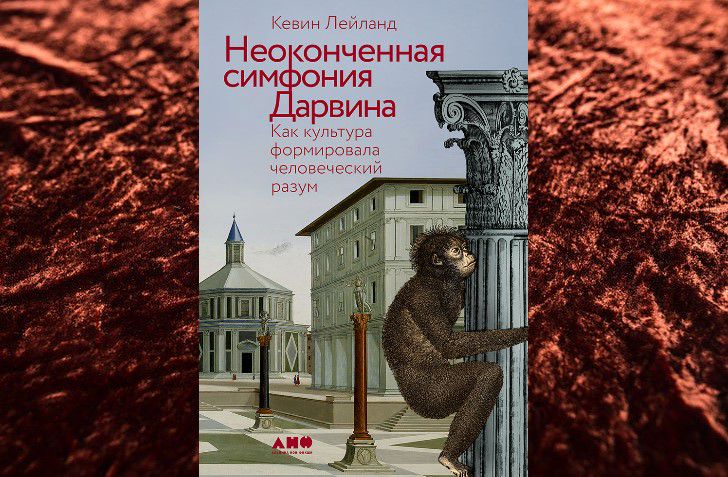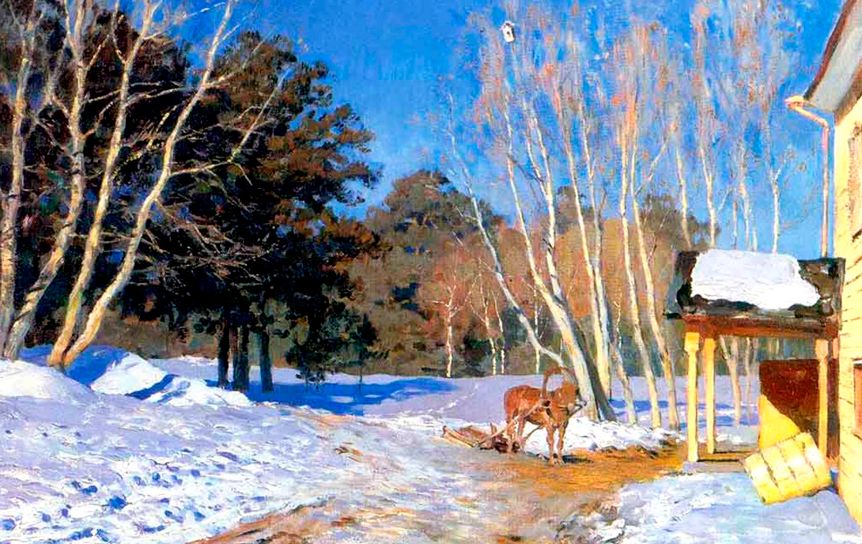Текст: Андрей Мягков
Тяжело иногда продолжать верить, что культура способна хоть чему-то по-настоящему научить и хоть что-то изменить — новости вот в последнее время упорно убеждают, что ничему и ничего. И все-таки не надо отчаиваться, ведь ощущения — не самый надежный способ познания реальности. Стивен Пинкер, например, настаивает на том, что насилия в мире становится все меньше и меньше — и что путь от рутинных жертвоприношений до более-менее общепринятого гуманизма человечество проходит в том числе благодаря культуре. Вторит ему и профессор поведенческой и эволюционной биологии Кевин Лейланд — в том смысле, что отводит именно культуре (в самом широком смысле) важнейшую роль в формировании нас такими homo sapiens, какими мы себя знаем.
И правда ведь: между нашими когнитивными способностями и соответствующими способностями остальных видов, включая самых человекообразных из всех человекообразных обезьян, настоящая пропасть. Но как так вышло, что мы настолько отличаемся от других приматов? Как формировались наши разум, интеллект, язык? Как наша культура смогла развиться из тех практик, которые мы наблюдаем у других видов — и как так вышло, что, сформировавшись, культура стала ответно влиять на нашу эволюцию? Однозначного ответа у Лейланда — как и ни у кого на свете — нет; но есть, как он сам пишет, "подобие ответа". Отталкиваясь от теории генно-культурной коэволюции (которая как раз и объясняет человеческое поведение как совокупность взаимодействия генетической и культурной эволюций), ученый рисует захватывающие картины взаимного развития разума и культуры, состоящие из такого громадного количества нюансов, что захватывает дух.
Зачем это, спросите, читать? Ну, как минимум затем, что ничего важнее прочитать попросту невозможно. Мы ведь самоуверенно считаем, что сами принимаем решения, тогда как на самом деле в девяти случаях из десяти наш выбор — не совсем-то и наш; начиная с решения съесть еще один пончик и заканчивая решением взять в руки оружие пойти кого-то убивать. И если бы в школе учили не только извлекать квадратный корень и надевать противогаз, а еще и тому, как мы стали людьми и какими процессами в мозге на самом деле обусловлены наши взгляды и действия — глядишь, и насилия в мире, на радость Пинкеру, почти не осталось бы.
И хотя пока это, конечно, утопия — почему бы об этом не поговорить. Кстати, предлагаем прочитать фрагмент о том, как и зачем человечество научилось говорить.
Неоконченная симфония Дарвина: Как культура формировала человеческий разум / Кевин Лейланд ; Пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 612 с.

ГЛАВА 8. ПОЧЕМУ ТОЛЬКО У НАС ЕСТЬ РЕЧЬ
- Ты погрусти, когда умрет поэт,
- Покуда звон ближайшей из церквей
- Не возвестит, что этот низкий свет
- Я променял на низший мир червей.
- И, если перечтешь ты мой сонет,
- Ты о руке остывшей не жалей.
- Я не хочу туманить нежный цвет
- Очей любимых памятью своей.
- Я не хочу, чтоб эхо этих строк
- Меня напоминало вновь и вновь.
- Пускай замрут в один и тот же срок
- Мое дыханье и твоя любовь!..
- Я не хочу, чтобы своей тоской
- Ты предала себя молве людской!
- Уильям Шекспир. Сонет 71 (перевод С. Маршака)
Яркое выражение чувств и самоотречения, такие как в этом шекспировском сонете , трогают многих из нас до самого сердца. В мире, где людям свойственно стремление оставить свой след и как-то себя увековечить, самоотверженное желание исчезнуть из воспоминаний, чтобы те не стали мукой для любимого человека, — это очень сильный и щемящий порыв. В шекспировских строках как нельзя более точно передан отчаянный вопль душераздирающих эмоций, к которому мы не можем остаться глухи. Между тем сонет содержит гораздо более емкую информацию, чем любой вопль любого зверя. Никто из приматов, кроме человека, не выразит так полно и внятно свои переживания. Никакой представитель другого вида не рассуждает вслух о том, что станется с ним после смерти и каким словом помянут его остальные. Поистине, «что за мастерское создание — человек!».
Вряд ли Шекспир назвал бы человека в том же гамлетовском монологе «беспредельным в своих способностях», если бы наш вид не научился говорить. Не будь у нас языка и речи, не было бы и сонетов, пьес, театра, литературы, истории — и, в общем-то, самого великого барда. Если прав выдающийся советский психолог Лев Выготский, а он, несомненно, прав, без языка человеческая мысль не достигла бы такой сложности. Выготский убедительно доказывает, что знаки и символы сыграли роль орудий, опосредующих развитие человеческого мышления, которое, в свою очередь, тесно сопряжено с языком. Он установил связь между речью и развитием понятийного мышления и когнитивного осознания, которая признается в психологии по сей день. Аналогичные взгляды отстаивал и выдающийся американский лингвист Ноам Хомский, который подчеркивал, что язык — это не только средство коммуникации, но и система, структурирующая наши представления о мире. Когда мы думаем, то, как правило, пользуемся языковыми функциями.
Рассказ об эволюции человеческого познания и культуры будет неполным без объяснения того, как возник язык. Однако, несмотря на его безусловную значимость, причины возникновения и развития языка у человека остаются загадкой. Хотя, разумеется, недостатка в версиях у нас нет. В изобилии предлагаются на выбор разные сценарии появления естественного языка. Язык развивался, чтобы способствовать совместной охоте. Язык развивался как дорогостоящее украшение, позволявшее представительнице женского пола оценить представителя мужского. Язык развивался как замена привычного для других приматов груминга, когда социальные группы слишком разрослись. Язык развивался, чтобы способствовать формированию эмоциональных связей в паре, облегчать коммуникацию матери и ребенка, обмениваться сплетнями об окружающих, ускорять изготовление орудий, служить инструментом мышления и выполнять бесчисленное множество других гипотетических функций и задач.
Проблема в том, что версий этих, объясняющих развитие языка в ходе эволюции, чересчур много. Здесь плодятся догадки и множатся вполне правдоподобные истории происхождения самой дорогой нашему сердцу человеческой способности, однако в большинстве своем доказательства у них довольно шаткие. Собственно, уже одного переизбытка этих историй развития оказалось достаточно, чтобы вызвать у ряда исследователей глубокие сомнения в ценности таких умозрительных рассуждений. Трудности возникают главным образом из-за того, что язык возник лишь единожды, явившись уникальной адаптивной реакцией в одной-единственной ветви. Конечно, для эволюционных биологов в порядке вещей изучать уникальные признаки, такие как длинная шея жирафа или хобот слона. Однако в этих случаях все-таки существуют и другие длинношеие или длинноносые существа, которые могут послужить подсказкой в поиске факторов, способствовавших возникновению искомого признака. У языка же никаких, даже отдаленных, аналогов в животном царстве нет. Да, периодически заходит речь о «языке пчел» или «разговорах дельфинов», однако, несмотря на интенсивные исследования, ученые пока не обнаружили безусловного сходства между коммуникацией у человека и у других животных. Это не значит, впрочем, что сравнительный подход бесполезен в принципе. Напротив, благодаря исследованию коммуникации у животных удалось выяснить очень многое, в том числе чем именно уникальна коммуникация у человека и как менялись в ходе эволюции ее нейронные основы и артикуляционный аппарат. И тем не менее уникальность языка сильно затрудняет проникновение к его истокам.
Изучая, например, системы естественной коммуникации у приматов, мы не наблюдаем никакого прямолинейного возрастания сложности от низших обезьян к высшим и затем до человека. Многие исследователи отмечают, что коммуникационные системы человекообразных обезьян уступают по разнообразию сигналов системам низших обезьян. Так, у низших обезьян, в отличие от высших, в ходу тревожные сигналы, функционально схожие с референтными, однако действительно ли они используются в качестве сигналов- символов, как в человеческом языке, пока доподлинно не установлено. Само это различие между высшими и низшими обезьянами легко объяснимо с биологической точки зрения. Человекообразные обезьяны крупнее и сильнее, поэтому менее уязвимы, чем мелкие низшие. Вырабатывать тревожные сигналы- символы у высших обезьян почти наверняка просто не было необходимости, поскольку их сравнительно мало кто беспокоил. Собственно, о голосовой коммуникации у человекообразных обезьян в принципе известно очень немного. Они пользуются жестами, например, для приглашения к игре или когда детеныш просит, чтобы его понесли, — многие из этих жестовых сигналов включают элементы, усваиваемые путем научения. Но референтная функция у применяемых человекообразными обезьянами жестов, судя по всему, отсутствует, как и символическое или условное значение. Поэтому коммуникация у ближайших из наших ныне живущих родственников обычно представлена одиночными разрозненными сигналами, понятными только в строго ограниченных функциональных контекстах. Такие сигналы почти никогда не объединяют в связки для передачи более сложных посланий, и сообщают они только о происходящем «здесь и сейчас».
Да, некоторых человекообразных обезьян удалось научить значимым жестовым сигналам, и ажиотаж вокруг этого возник немалый. Однако лингвисты и языковеды практически единодушно считают громкие заявления — например, что шимпанзе Уошо или горилла Коко освоили полноценный язык, имеющий грамматическую структуру, — необоснованными. Такие эксперименты свидетельствуют только об одном: человекообразные обезьяны способны выучить значение большого количества символов и использовать их для коммуникации. Однако все утверждения, что та или иная человекообразная обезьяна освоила правила грамматики, по-прежнему не выдерживают критики. Ассоциативную связь между символом и действием можно выработать и у крысы или голубя, так что в материалах по жестовому языку у человекообразных обезьян нет практически ничего такого, чего нельзя было бы объяснить простыми законами ассоциативного научения и, возможно, отчасти подражанием.
Что характерно, все высказывания говорящих обезьян ужасно эгоцентричны. Предоставьте обезьяне возможность высказаться с помощью символов и знаков, и она скажет: «Дайте еды!» — или огласит какие-то другие собственные желания. Например, самое длинное из документированных высказываний Нима Чимпски (шимпанзе, которого обучил искусственному языку символов Герберт Террас из Колумбийского университета) было такое: «Дать апельсин мне дать есть апельсин мне есть апельсин дать мне есть апельсин дать мне ты». Собеседники из шимпанзе, бонобо и горилл получаются неважные. Человеческие же двухлетки , в отличие от них , уже через несколько месяцев после того, как скажут первое слово, составляют самые разнообразные сложные предложения, включающие глаголы, существительные, предлоги («на», «в», «под» и т. п.), определяющие слова (артикли, притяжательные местоимения — «твой», «мой» и т. п.), при этом грамматически правильно построенные и касающиеся самых разнообразных тем. Даже совсем маленькие дети способны говорить о прошлом и о будущем, а также об отдаленных предметах и местах.
Для эволюции языка, судя по всему, требовался крупный сдвиг в референтной коммуникации — переход от не требующих научения, конкретных, разрозненных сигналов, относящихся к определенным событиям в настоящем, к общей, гибкой, усваиваемой путем научения и социальной передачи, бесконечно комбинируемой и функционально неограниченной форме коммуникации, абсолютно отсутствующей в животном мире. Парадокс эволюции языка великолепно сформулировал лингвист Дерек Бикертон: «Язык должен был развиться из некой предшествующей системы, однако ничего похожего на такую систему нигде не наблюдается».
Усложняет положение дел и то, что человеческий язык находит множество разных параллельных применений, которые мы все наблюдаем ежедневно и ежечасно. Даже при самом виртуозном владении гибким хоботом или длинной шеей диапазон действий все-таки будет ограничен и позволит вычислить их изначальное предназначение. Тогда как с помощью языка можно завоевать избранника, продемонстрировать превосходство, организовать командную работу, утешить ребенка, дать наставления ученику, обмануть соперника, издать указ, исполнить песню — и так далее, до бесконечности. Стоило языку достаточно развиться, и для него незамедлительно нашлась масса задач, совершенно не связанных с изначальной функцией. Имея дело с одним из самых гибких человеческих свойств, отличить изначальный селективный сценарий от последующего применения оказалось невероятно сложно.
Это не значит, что мы так никогда и не узнаем, зачем у нас появился и начал развиваться язык. У нас есть способы упорядочить и рассортировать гипотетические объяснения. Можно применить критерии, позволяющие ученым сравнить преимущества альтернативных версий изначальной функции языка. Однако, насколько я знаю, они так и не были собраны воедино и потому до сих пор не применялись комплексно. Чтобы выяснить, как и зачем развился язык, нужно задаться вопросом, что побудило наших предков отойти от коммуникационных систем, используемых другими животными, в частности другими приматами.
Подход, которым я пользуюсь, разрабатывали Сабольч Самадо с Эоршем Сатмари и Дерек Бикертон — в общей сложности они наметили шесть критериев, позволяющих определить состоятельность соперничающих теорий эволюции языка. Я хочу добавить еще один критерий — мой собственный. Таким образом, у нас набирается семь ориентиров для оценки разных версий изначального адаптивного преимущества, которое давали ранние формы языка. И хотя большинство из этих критериев сами по себе нельзя назвать особо строгими, объединить их важно, поскольку в совокупности они задают жесткие научные рамки, в которые почти никакие из предложенных теорий не вписываются. Собственно, насколько мне известно, всем критериям удовлетворяет только одна из функциональных версий происхождения языка — та, которая закономерно вытекает из рассуждений, представленных в нашей книге. Давайте теперь рассмотрим каждый из критериев по очереди.
Во-первых, убедительная теория должна объяснять правдивость раннего языка. Исследования коммуникации у животных показывают: чтобы сигнал был надежным и правдивым, требуются чаще всего определенные затраты, иначе его будет слишком легко подделать. Многие формы коммуникации в дикой природе включают затратные для участников сигналы. Затраты на производство сигналов гарантируют их точность, и, пока передаваемая с их помощью информация в среднем надежна и правдива, адресаты, предположительно, будут на эти сигналы откликаться. Система точных и правдивых сигналов, не требующих затрат, вполне может развиться, но в первую очередь лишь там, где между участниками нет конфликта интересов. Человек сигнализирует о своем статусе, наглядно демонстрируя богатство или участвуя в рискованных занятиях вроде охоты, однако на речь и жесты как таковые он практически не тратится. Человеческая речь — это сигнальное устройство, не знающее равных по экономичности и гибкости, позволяющее его обладателям «молоть языком» в беспрецедентном множестве разнообразных ситуаций. Однако если слова так дешево даются, почему человек должен верить речам других и зачем ему учить тысячи слов, если нет никакой уверенности в том, что они будут точны? Согласно этому критерию, исследователи должны отдавать предпочтение версиям, помещающим ранний этап эволюции языка в такой контекст, который либо исключает конфликт интересов между подающим сигнал и принимающим, либо позволяет с легкостью оценить надежность сигналов.
Во-вторых, эта теория должна объяснить расчет на сотрудничество раннего языка. Во многих актах лингвистической коммуникации адресату сообщают некие полезные сведения. Соответственно, он может затем воспользоваться ими наравне с сообщающим и даже обратить их против этого сообщающего в конкурентной борьбе, причем без всяких гарантий, что сам когда-нибудь отплатит услугой за услугу. Возникает вопрос: в чем же тогда выгода для сообщающего? Значимость этого критерия возрастет, если применять его в связке с первым (правдивость языка). Если бы язык развивался ради обмана или манипуляций, представить, чем выгодна передача сведений другим, было бы проще. Однако если ранний язык был правдивым и передаваемая информация несла пользу адресату, язык выступал одним из инструментов сотрудничества. И тогда, даже если затраты на производство самого сигнала незначительны, к ним добавляются другие, уже отнюдь не малые, издержки в виде затраченного времени и порождаемой конкуренции. Успешная версия должна обосновать, почему на заре становления языка кто-то готов был помочь другому в ущерб себе, передавая точную и достоверную информацию.