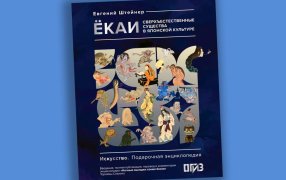Текст: Юлия Савиковская
В мае в честь дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова в Москве прошел праздник “Булгаков Фест”, организованный Департаментом культуры города Москвы и Музеем Михаила Булгакова, той самой “Нехорошей квартирой” № 50 на Большой Садовой, 10. Фестиваль проводился уже в третий раз, и в этом году был посвящен столетию со дня создания повести “Собачье сердце”, написанной в период с января по март 1925 года.
Есть в Москве театр, который по праву гордится тем, что в 1987 году открыл российскому зрителю это произведение, на момент постановки еще не опубликованное в России (за рубежом оно увидело свет в 1960-х годах) - это Московский Театр Юного Зрителя. Именно поэтому в 2025 году партнером фестиваля стал МТЮЗ, который организовал два уникальных мероприятия - сначала экскурсию по закулисью театра под руководством замдиректора по маркетингу Александра Жукова, а 16 мая - уникальную встречу с художественным руководителем театра Генриеттой Яновской, рассказавшей о задумке, репетициях и последующих мировых гастролях постановки “Собачьего сердца”. Кстати, Генриетта Наумовна и сама отмечает в этом году круглую дату - 24 июня ей исполнится 85 лет.
Интересно, что экскурсия, прошедшая 15 мая, как бы подготовила эту встречу - Александр Жуков, исполнявший в “Собачьем сердце” Швондера (и гордящийся памятной надписью “Первому Швондеру СССР”), поделился своими воспоминаниями о приеме первого прогона спектакля, который - по-булгаковски случайно - состоялся тоже 15 мая. Кажется, в этом театре все верят, что Михаил Афанасьевич лично способствовал ее появлению на свет - так, после прогона (о чем позже рассказала и Яновская) началась такая гроза, что чиновникам, которые должны были посовещаться и принять решение о приеме спектакля через несколько дней, невозможно было выйти на улицу. Поэтому они вернулись в здание театра, пили чай с сотрудниками и пришедшими на прогон театральными критиками, и решили принять его “не отходя от кассы” - в этот же день, после чего гроза моментально прекратилась.

Встреча с Генриеттой Наумовной Яновской прошла на следующий день, собрав полный зал малой сцены театра. Сюрприз ожидал пришедших прямо у входа на сцену - их глазам открылись четыре расписанные египетские колонны, манекены в египетских масках животных, два буфета, инструмент, напоминавший небольшое скособоченное пианино, и кусочки странной плотной черной бумаги, похожей на папиросную или оберточную, лежавшие на сцене. Позже мы узнали, что это за бумага, почему Египет, откуда маски - и почему Сергей Бархин оформил спектакль именно так. Оказывается, работники художественно-постановочной части МТЮЗа совершили подвиг - нашли все сохранившиеся до сегодняшнего дня элементы сценического оформления спектакля, и вместе с несколькими афишами зарубежных гастролей (Израиль и Швейцария) выставили на малой сцене.
Генриетта Яновская в течение всей творческой встречи сидела за столом именно среди этого великолепия. В начале же, кроме мужа и коллеги-режиссера Камы Гинкаса, к Яновской присоединились и актеры, участвовавшие в спектакле (в нем было занято около 28 актеров), среди которых - бессменный Шарик и Шариков, сыгравший все спектакли “Собачье сердце” (а их было примерно 350) бывший артист МТЮЗа, выпускник Щукинского училища Александр Вдовин. В этом объединении артистов вокруг своего режиссера, кажется, на миг промелькнули моменты их читок, репетиций, содружества. А потом все сели в зал (Кама Миронович сел на пол, в проходе между креслами прямо напротив Яновской), а Генриетта Наумовна стала рассказывать о задумке и создании спектакля. Интересно, что она волновалась о том, как и что мы, слушатели, воспринимаем - то есть, была режиссером даже этого рассказа. Попросила выключить телефоны, которые “звонят, пока люди говорят и думают на сцене”, переживала за отсутствие реакций из зала (пришлось несколько раз убеждать ее, что все молчат, потому что внимательно слушают), сама комментировала структуру своих воспоминаний и “апартов” (историй, отклоняющихся от рассказа о постановке). За полтора часа встречи стало понятно, что этот спектакль - часть жизни великого режиссера.

Яновская рассказала о том, как выпускница ЛГИТМиКа, студентка товстоноговской школы, она сначала поставила несколько спектаклей в Ленинграде и Красноярске, а потом - свой первый спектакль в Москве “Вдовий пароход” (Театр имени Моссовета), после которого неожиданно для нее самой ей предложили возглавить МТЮЗ. Но что ставить? Яновская и Гинкас были в гостях у своего друга, писателя и драматурга Александра Червинского, который вдруг заявил: “Да надо поставить “Собачье сердце” Булгакова, и все”. И взялся за инсценировку. Кстати, еще до читок ее требовали посмотреть представители партийных органов, но Яновская не дала - пригласила на читку, так как “право первой ночи - у актеров”. “Так что борьба была” - подытожила режиссер со скрытой язвительностью во фразе. Пока писалась инсценировка (примерно месяца три до ноября 1986 года), Яновская пыталась определить для Сергея Бархина, будущего художника постановки, основные задачи спектакля. Яновская определила их так - чтобы было ощущение мира после чумы, но был и пласт уюта, который потерян. И нужен был третий элемент - что-то нечеловеческое, что нельзя потрогать, у чего нельзя погреться, с которым нельзя взаимодействовать.
Думали-думали, и тут, как считает худрук МТЮЗа, вмешался Булгаков, которому надоело наблюдать за этим процессом. Бархин предложил сделать на сцене “черный снег” - им чуть ли не по щиколотку должно была быть засыпана сцена (готовили его, разбивая топорами огромные рулоны черной плотной бумаги). Такой черный мусор, вспомнила Яновская, она видела на фотографиях чумных городов Индии и Индонезии в Военно-морском музее Ленинграда. А “черный снег” - это ведь еще и из “Театрального романа” - снег, залитый кровью, становился черным. Египетские же элементы возникли, потому что Преображенский все время слушает “Аиду” - но это, конечно, не впрямую Египет, это декорации к Египту из его (и нашего, зрительского) воображения. Поэтому появились и четыре “человека рампы” - четыре египтянина в масках животных (включая собаку), которые иногда проходили по авансцене в причудливых графических позах, как будто сошли с колонн с иероглифами. При этом Яновская ввела в спектакль еще и трех гэпэушников из “Роковых яиц”, наблюдавших за процессом.
Спектакль сначала показали школьникам-старшеклассникам - ведь театр детский, на них и опробовали премьеру, насчет которой театральный критик Анатолий Смелянский заранее предупредил Яновскую - “сюда ходят целыми классами, ты совершаешь преступление”. После той судьбоносной приемки в грозу, о которой мы слышали от замдиректора, последовал фурор и ряд потрясающих зрителей - на спектакль даже пришел Андрей Дмитриевич Сахаров, интервью с которым о “Собачьем сердце” под названием “Я верю в разум” вышло в журнале “Театр”. На фотографиях среди зрителей - Окуджава и Майя Плисецкая, Борис Ельцин с женой. Спектакль первым от СССР был в Турции, смог осуществить гастроли в Израиль в тот момент, когда с Израилем не было официальных дипломатических отношений, был в ГДР (где зрители больше реагировали на его идеи) и ФРГ (там восхищались игрой актеров и мизансценами, но критики курьезно не поняли, что Шарика и Шарикова играл один и тот же актер). Был в Голландии, Бельгии, Италии и Швейцарии. Был на спектакле в Москве Питер Брук, который заранее написал в СТД с просьбой о двух билетах, и разговор с ним и его женой, которая рассказала, что ее муж обычно засыпает на спектаклях, а она его при этом тихо толкает ногой, но в этот раз толкать не приходилось. Нам, зрителям, чтобы мы составили общее впечатление о спектакле, показали отрывки из его видеозаписи - и создалось удивительное ощущение присутствия. Через полтора часа, после фотографий на фоне египетских колонн, все не верилось, что чудо погружения в прошлое и в булгаковское “Собачье сердце” должно подойти к концу - хотя, возможно, оно и не закончилось.