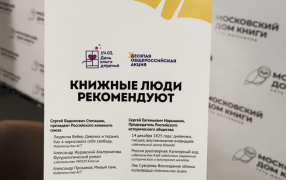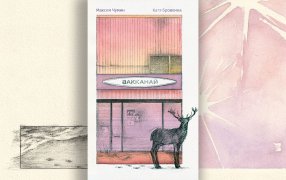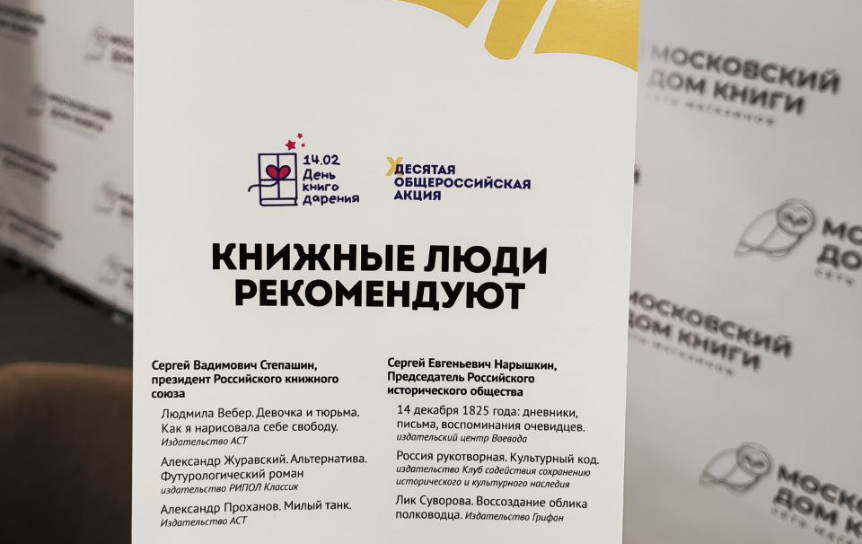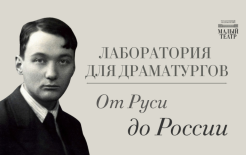Текст: Михаил Визель
Публикация в «Российской газете» колонки Михаила Швыдкого «Похвальное слово цензуре» (02.07.2025) вызвала форменный переполох не только на берегах Москвы-реки и Невы, но и рек куда более отдалённых: от Даугавы и Сены до Иордана и даже Гвадалквивира. Бывший министр культуры призывает возродить цензуру! Спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству вспоминает «миловидную молодую барышню», решавшую, что можно, а чего нельзя читать советским людям!
Звучит действительно пугающе – если воспринимать "один к одному". А о таких явлениях, как чёрный юмор, двойная перекодировка, отстранение, постирония, в конце концов, комментаторы – обладатели университетских филологических дипломов и даже учёных степеней – в данном случае предпочли забыть. Впрочем, уровни этой самой постиронии – штука действительно сложная. И поскольку я учёной степенью не осенен, в поисках ответа, где она заканчивается, обратился, как обычно, к Пушкину. И он, как обычно, не подвёл.
Пушкин развёрнуто и публично (не в частной переписке) высказывался о российской предварительной цензуре дважды: в юношеском стихотворении 1822 года «Послание цензору», начинающемся как бы шутливо:
- Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой,
- Сегодня рассуждать задумал я с тобой.
- Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
- Цензуру поносить хулой неосторожной;
- Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
- У нас писатели, я знаю, каковы;
и заканчивающемся вполне серьезно:
- Но цензор гражданин, и сан его священный:
- Он должен ум иметь прямой и просвещенный;
- Он сердцем почитать привык алтарь и трон;
- Но мнений не теснит и разум терпит он...
А главное, уже в зрелые годы в своём, можно сказать, итоговом публицистическом произведении «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834). В котором он возражает Радищеву, апологету самиздата, и отстаивает прямо-таки необходимость цензуры в стране, где писать публично — удел немногих.
Вот как он это делает:
О ЦЕНЗУРЕ
Расположась обедать в славном трактире Пожарского, я прочел статью под заглавием «Торжок». В ней дело идет о свободе книгопечатанья; любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов.
Один из французских публицистов [Бенжамен Констан в «Размышлениях о конституциях и гарантиях» (1814) – Ред.] остроумным софизмом захотел доказать безрассудность цензуры. Если, говорит он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительства не замедлили б установить цензуру и на язык; издали бы известные правила, и два человека, чтоб поговорить между собою о погоде, должны были бы получить предварительное на то позволение.
Конечно: если бы слово не было общей принадлежностию всего человеческого рода, а только миллионной части оного, — то правительства необходимо должны были бы ограничить законами права мощного сословия людей говорящих. Но грамота не есть естественная способность, дарованная Богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек безграмотный не есть урод и не находится вне вечных законов природы. И между грамотеями не все равно обладают возможностию и самою способностию писать книги или журнальные статьи. Печатный лист обходится около 35 рублей; бумага также чего-нибудь да стоит. Следственно, печать доступна не всякому. (Не говорю уже о таланте etc.)

Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристокрация самая мощная, самая опасная — есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристокрация породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.
Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом.
«Мы в том и не спорим, — говорят противники цензуры. — Но книги, как и граждане, ответствуют за себя. Есть законы для тех и для других. К чему же предварительная цензура? Пускай книга сначала выйдет из типографии, и тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить, а сочинителя или издателя присудить к заключению и к положенному штрафу».
Но мысль уже стала гражданином, уже ответствует за себя, как скоро она родилась и выразилась. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона.
Действие человека мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое.