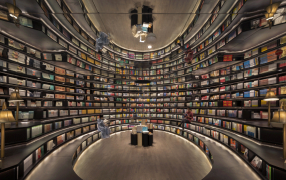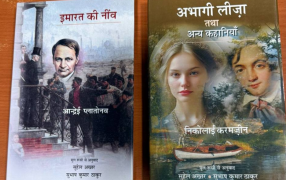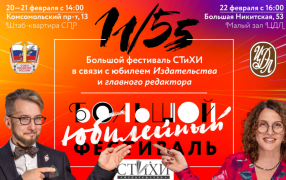Интервью: Анастасия Скорондаева
Среди финалистов "Большой книги" в этом году немало дебютантов. Вот и роман Максима Семеляка - музыкального редактора и критика, писавшего рецензии для модных журналов, стал его первым выходом в художественной литературе. До романа "Средняя продолжительность жизни" были научпоп, лирическое исследование о Егоре Летове "Значит, ураган", а также история группы "Ленинград".
"Средняя продолжительность жизни" начинается такой кладбищенской интригой - герой романа Максим, альтер-эго автора, выкапывает из могилы на Ваганьковском урну с прахом матери и едет с ней в подмосковный санаторий, по местам своего детства. Дальше - увлекательное путешествие в прошлое, изобилующее метафорами, остротами и отсылками, понятными тем, кто совпадает с автором в мироощущении. Почему Семеляк относится к своему тексту как к игре в шахматы? Как звучит саундтрек романа и что в нем автобиографичного?
Максим, будь ваш роман фильмом, его бы тут же записали в "артхаусные". Одни получают от него наслаждение, другие говорят, что ничего не поняли... Вы же критик, поможете читателю?
Максим Семеляк: Текст в идеале должен вызывать реакцию типа "что это было?" То, что вы справедливо называете изобилием метафор, на самом деле не более чем профессиональная деформация лирического героя, который, напомним, родом из околокультурной журналистики девяностых и нулевых, когда подобное захлебывающееся ссылками письмо еще было в моде. Я прекрасно понимаю, что сейчас так уже не носят, но действие-то в 2008 году.
Сюжет, который необходим среднестатистическому читателю, в романе исчезает…
Максим Семеляк: Сказать по правде, я отношусь к тексту как к шахматам, в том смысле, что я никогда всерьез не учил дебютов, у меня есть некие заученные с детства схемы для начала игры, буквально три-четыре хода, а дальше все идет как-то само и уже без правил. Так и здесь: первые ходы вполне традиционны и узнаваемы, а если дальше сюжет исчезает, то, значит, в процессе игры им нужно было пожертвовать, как ферзем, для иных целей.
Надо ли читать с "Гуглом", чтобы разбираться во всех цитатах и намеках, или главное, чтобы читатель поймал вайб (то есть для непонятливых - ощутил атмосферу)?
Максим Семеляк: Ничего специального там не зашифровано, для меня это как семплирование в электронной музыке, самый расхожий и естественный прием. Кто-то, допустим, считывает отсыл к условному Теду Хьюзу, кто-то - нет, ну а какая, в сущности, разница? Мне важнее, чтобы люди на танцполе чувствовали общий вайб и грув, пользуясь вашими же терминами. Сентенция Бродского - "если хотите, чтобы вас цитировали, не цитируйте сами" - звучит справедливо, но подходит не всем. Я как раз не хочу, чтоб меня цитировали. Предпочитаю цитировать сам, нахожу это приятным и поучительным.
Герой романа - ваше альтер-эго, но постоянно ускользающее. Зачем вам это раздвоение между намеками на автобиографию и вымыслом?
Максим Семеляк: Самое простое в тексте - создать знакомую иллюзию многословной недосказанности и раствориться в ней самому. Я не очень разделяю по жанрам - проза, рецензирование, выдумка, автобиография - все это просто разные формы одной отсебятины. Мне нравится, как характеризовал свой метод Роб-Грийе (французский писатель и кинорежиссер. - Прим. ред.): холодная точность в сочетании с патетикой бреда. Так и здесь: автобиографичность нужна для статистической точности, чтобы высветить собственно патетику бреда. Кроме того,
Долго вы вынашивали идею и писали книгу?
Максим Семеляк: От задумки до сдачи в типографию прошло лет семь-восемь - по паре слов в день, за исключением последнего года, когда был поставлен дедлайн. Говорят, за семь лет клетки человека совершенно меняются, и получается, что человек, начавший это писать, и поставивший точку - это разные люди. Но в таком случае мне дороже тот, кто начал.
Время, в котором оказался ваш герой, - начало нулевых, тягучее. А для вас в этом времени больше тоски по себе или герою, не умеющему ужиться в новых обстоятельствах?
Максим Семеляк: Время действия - все же вторая половина нулевых, хотя на самом деле календарная привязка не так уж принципиальна, это просто частный случай личного безвременья, когда молодость кончилась, а взрослость отменилась, и в клетке этого неотенического невроза начинают вызревать какие-то фантомные сущности на благодарном фоне бесхлопотной Москвы тех лет.
В те годы вы работали редактором в крупных и модных изданиях. По-вашему, теперь, когда кругом развелось множество сайтов, Telegram-каналов, блогов, читателю стало проще найти тот голос, которому можно доверять?
Максим Семеляк: Боюсь, что сама оппозиция журналист vs блогер была актуальна лет 15-20 назад и уходит в незапамятные времена "Живого журнала". Нынешний блогер - такое же аналоговое и ламповое явление по сравнению с чат-ботами. Зарождение сетевой и маргинальной словесности - обыкновенная эволюция человека печатающего, совершенно по Маклюэну. С блогерами я вполне одной крови, тем более что журналистского образования у меня нет, начинал как раз в Сети - был в 1996 году, на самой заре Рунета, такой сайт - "Московский обозреватель". Что до качества, то иные Telegram-каналы сегодня дадут сто очков вперед тому, что писали когда-то в крупных и модных СМИ.
Я, безусловно, рад, что застал чуть не гутенберговскую эру... Мне нравилось то время, но кичиться им ни к чему.
Вы сказали как-то, что "Средняя продолжительность жизни" - это пародия на философское размышление о поколении. Можете назвать три главные вещи, характеризующие это поколение?
Максим Семеляк: Мне больше нравится студенческое слово "поток", и в нашем потоке главенствовали, в общем, те же вещи, что и всегда: мир, конечность, одиночество.
Кто-то из критиков сравнил ваш роман и с "Волшебной горой" Томаса Манна, и с "Улиссом" Джойса… Для вас это ориентиры?
Максим Семеляк: Для меня-то это, безусловно, ориентиры, а вот критики, очевидно, невысоко ставят данные произведения, коль скоро сравнивают их с моим сочинением.
Какой саундтрек у "Средней продолжительности жизни", чтобы погрузиться в текст?
Максим Семеляк: Ну, например, там упоминается затерянный во времени австралиец Филип Мортлок с песней Only for the first time 1973 года выпуска, можно, наверное, начать с него, да им же и закончить. Честно говоря, мне просто приятно, что это имя будет второй раз после книги упомянуто по-русски, теперь в газете.
Как музыкальный критик на кого из современных исполнителей рекомендуете сегодня обратить внимание?
Максим Семеляк: Мое время критика давно прошло, мои теперешние отношения с музыкой все больше напоминают куплетную фразу "кого люблю, того здесь нет". Тем не менее из сравнительно современных могу посоветовать американку Софию Изеллу, ей двадцать лет, и, кажется, это наш человек.