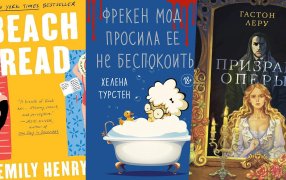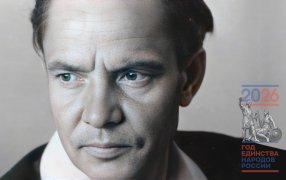Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»
110 лет назад, 28 ноября 1915 года, родился Константин Симонов. Поэт, военкор, драматург, романист, мемуарист. Во всех своих ипостасях почитаем и ярок. Умер он несколько эпох назад, а необходимым останется навсегда.
Когда судьба поэта так тесно переплетена с ключевыми событиями истории – это вызов, это ракета-носитель в судьбе. Можно взлететь, а можно и исчезнуть. Талант Симонова не уступал испытаниям, которые переживала страна вместе с ним, вместе с героями его стихов и спектаклей. Из написанного им можно было бы выбрать и двадцать, и тридцать вещиц. Автор хотел представить разные мотивы, подвластные Симонову и важные для него.
Генерал
Симонов не воевал против франкистов в Испании, хотя многие считали, что он там все-таки побывал. Его голос зазвучал громко, когда Симонов опубликовал стихотворение «Генерал» памяти Мате Залки – советского писателя, венгерского революционера, павшего в Испании:
- В горах этой ночью прохладно.
- В разведке намаявшись днем,
- Он греет холодные руки
- Над желтым походным огнем.
- В кофейнике кофе клокочет,
- Солдаты усталые спят.
- Над ним арагонские лавры
- Тяжелой листвой шелестят.
Стихи сразу напоминали мужественные «мелодии и ритмы» Киплинга, которого Симонов увлеченно переводил. Есть в этих строках и гумилевский мотив. В то же время, это узнаваемый симоновский голос. Поразительно его умение вворачивать в патетические стихи точную детализацию. «Кофе клокочет», - никто до Симонова так не говорил. Многое в его поэзии заложено в этом раннем стихотворении. Так бывает: одна публикация превращает одного из многих молодых поэтов в единственного.
Далеко на востоке
Симонов впервые увидел войну на Халхин-Голе. СССР, Монголия, Япония… Вспоминал о боевом крещении всю жизнь, а в 1941 году завершил небольшую, необыкновенно сильную поэму об этой войне.
Цитировать можно бесконечно:
Ночная Тверская тихо шуршит в огне…
- Поворот рычага – соскользнула!
- Ты сидишь за столом, с друзьями.
- А сосед не успел. Ты недавно ездил в Пензу к его жене,
- отвозил ей часы и письма с обугленными краями.
- За столом в кафе сидит человек с пятью орденами:
- большие монгольские звезды
- и Золотая Звезда.
- Люди его провожают внимательными глазами,
- они его где-то видели,
- но не помнят,
- где и когда.
- Может быть, на первой странице «Правды»?
- Может быть, на параде?
- А может быть, просто с юности откуда-то им знаком?
- Нет, еще раньше,
- в детстве, списывали с тетрадей;
- нет, еще раньше,
- мальчишками, за яблоками, тайком…
- А если бы
- он
- и другие
- тогда, при Баин-Цагане,
- тот страшный километр,
- замешкавшись,
- на минуту позднее прошли,
- сейчас был бы только снег,
- только фанерные звезды на монгольском кургане,
- только молчание ничего обратно не отдающей земли.
- По-разному смотрят люди в лицо солдату:
- для иных,
- кто видал его
- только здесь, в Москве, за стаканом вина,
- он просто счастливец,
- который
- где-то,
- когда-то
- сделал что-то такое,
- за что дают ордена.
- Вот он сидит, довольный, увенчанный,
- он видел смерть,
- и она видала его.
- Но ему повезло,
- он сидит за столом с друзьями,
- с влюбленной женщиной,
- посмотрите в лицо ему – как ему хорошо и тепло!
- Да! Ему хорошо.
- Но я бы дорого дал, чтоб они
- увидали его лицо не сейчас,
- а когда он вылезал из своей машины,
- не из этой,
- которая там, у подъезда,
- а из той,
- где нет сантиметра брони
- без царапин от пуль,
- без швов от взорвавшейся мины.
- Вот тогда пускай бы они посмотрели в лицо ему:
- оно было усталым,
- как после тяжелой работы,
- оно было черным,
- в пыли и в дыму,
- в соленых пятнах
- присохшего пота.
- И таким
- усталым и страшным
- оно было тридцать семь раз
- и не раз еще будет –
- «если завтра война»,
- как в песнях поется.
Много лет спустя Симонов вспоминал: «Время боев на Халхин-Голе - время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом Берлин. Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие. Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено». Даже глазам больно читать – настолько подлинно удалось Симонову передать изнурительное напряжение танкового сражения. Долг солдата – пройти через круги ада. Это Симонов показал точнее других. Здесь – физиология войны. И столкновение армейского и штатского быта, военного и мирного. Как это правдиво, тонко, убежденно написано. Свободным стихом Симонов владел виртуозно.
Парень из нашего города
Эту пьесу Симонов написал перед войной. Ее герой – молодой командир Сергей Луконин – воевал в Испании, бежал из плена. Это настоящий советский человек, остроумный, энергичный, бесстрашный. Он оптимист, который верит в человека и борется за его будущее. Поставили пьесу в апреле 1941 года. Симонов много писал для театра, но именно Луконин стал олицетворением фронтового поколения. Кинофильм с Николаем Крючковым в главной роли вышел уже в 1941 году. Туда ворвалась Великая Отечественная, там прозвучало и стихотворение «Жди меня». Там прозвучала и одна из ключевых мыслей Симонова: «Победу одни живые не делают. Ее пополам делают живые и мертвые».
«Ты говорила мне «люблю»…»
Это терпкое стихотворение появилось в начале войны:
- Ты говорила мне «люблю»,
- Но это по ночам, сквозь зубы.
- А утром горькое «терплю»
- Едва удерживали губы.
- Я верил по ночам губам,
- Рукам лукавым и горячим,
- Но я не верил по ночам
- Твоим ночным словам незрячим.
Есть и финал – непохожий на начало, ведь началась война:
- Такой я раньше не видал
- Тебя, до этих слов разлуки:
- Люблю, люблю… ночной вокзал,
- Холодные от горя руки.
В стихах о любви Симонов не боялся быть слабым, неправым. Откровенным. Как часто мысленно мы говорим о своей любви его словами. За этими строками стоит целый пласт симоновской лирики.
Жди меня
В июле 1941-го, ненадолго вернувшись с фронта, поэт ночевал на переделкинской даче писателя Льва Кассиля. Он был обожжен первыми боями в Белоруссии. Всю жизнь ему снились эти бои. Шли самые черные дни войны, трудно было укротить отчаяние. Стихотворение, посвященное Валентине Серовой, написалось в один присест. Публиковать «Жди меня» Симонов не собирался: написанное казалось слишком интимным. Иногда читал эти строки друзьям, стихотворение ходило по фронтам, переписанное, подчас – на папиросной бумаге, с ошибками… Потом стихотворение прозвучало по радио. Оно сначала стало легендарным, а потом – напечатанным. Публикация состоялась не где-нибудь, а в главной газете всея СССР – в «Правде», 14 января 1942 года, а уж вслед за «Правдой» его перепечатали десятки газет. Его знали наизусть миллионы людей – небывалый случай. Повторяли их как молитву, и молитва помогала.
Война – это разлуки. Это надежда на любовь. Иначе многое теряет смысл. Написать такое можно в минуты отчаяния, когда понимаешь, что «все смерти» совсем близко:
- Жди, когда из дальних мест
- Писем не придет,
- Жди, когда уж надоест
- Всем, кто вместе ждет.
Так почти не бывает: несколько популярных и маститых композиторов положили эти стихи на музыку, а все равно важнее оказалось чтение, а не пение.
Сын артиллериста
В декабре 1941 года в «Красной звезде» вышла поэма «Сын артиллериста». Наверное, невозможно сильнее написать о мужестве, о воинской отваге. Помните?
- Держись, мой мальчик: на свете
- Два раза не умирать.
- Ничто нас в жизни не может
- Вышибить из седла!—
- Такая уж поговорка
- У майора была.
Эта история – не плод фантазии. В июле 1941 года, на полуострове Средний, под Мурманском, комвзвода топографической разведки Иван Лоскутов совершил подвиг. Он корректировал огонь артиллерии, заняв позицию на высоте, в окружении. В конце боя молодой командир вызвал огонь на себя. Он чудом остался жив, жизнь боевого топографа спасли после тяжлого ранения. Был в его жизни и «второй отец» - майор Ефим Рыклис. Симонову удалось написать небольшую, по-военному отрывистую поэму, в которой так много сказано о жизни и смерти, что и добавить нечего. Только перечитывать, когда трудно.
Песня о веселом репортере
Симонов написал несколько народных песен. «Как служил солдат», «От Москвы до Бреста…» и вот это «Песню о веселом репортере». Это еще одна его грань – почти анекдот, пустяк, из которого вырастает трагическая история:
- …В блокноте есть три факта,
- Что потрясут весь свет,
- Но у Бодо контакта
- Всю ночь с Москвою нет;
- Он, чтобы в путь неблизкий
- Отправить этот факт,
- Всю ночь с телеграфисткой
- Налаживал контакт.
- Но вышли без задержки
- Наутро, как всегда,
- «Известия», и «Правда»,
- И «Красная звезда».
- Под Купянском, в июле,
- В полынь, в степной простор
- Упал, сраженный пулей,
- Веселый репортер.
- Блокнот и «лейку» друга
- В Москву, давясь от слез,
- Его товарищ с юга
- Редактору привез.
- Но вышли без задержки
- Наутро, как всегда,
- «Известия», и «Правда»,
- И «Красная звезда».
Он написал эти стихи вместе с другом, Алексеем Сурковым, в 1942 году. Стихи посвящены памяти военкора, тридцатилетнего фотографа Михаила Бернштейна, погибшего под Харьковом. Он мог спастись, но уступил место в самолете раненому бойцу. Неунывающий, улыбчивый, он стал прообразом многих героев симоновской военной прозы. Константин Михайлович называл его «самым бесстрашным». В таких обманчиво легких импровизационных стихах читателя не обмануть.
Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне
Симонов стал, пожалуй, лучшим поэтом холодной войны. В то время он много писал о политике, его интересовала международная жизнь. Во многом менее напряженная, чем сражения. Мы можем судить о тогдашней атмосфере, о советском мировоззрении времен противостояния систем, именно по стихам Симонова. В этом стихотворении азербайджанский поэт Самед Вургун говорит в лицо британцам правду о том, что советская держава обречена на победу, ибо ей принадлежит будущее. И вот что из этого получилось:
- Так говорил Самед, мой друг,
- А я смотрел на лица их:
- Сначала был на них испуг,
- Безмолвный вопль: «В полицию!»
- Потом они пошли густым
- Румянцем, вздувшим жилы,
- Как будто этой речью к ним
- Горчичник приложило.
- Им бы не слушать этот спич,
- Им палец бы к курку!
- Им свой индийский взвить бы бич
- Над этим — из Баку!
- Плясать бы на его спине,
- Хрустеть его костями,
- А не сидеть здесь наравне
- Со мной и с ним, с гостями,
- Сидеть и слушать его речь
- В бессилье идиотском,
- Сидеть и знать: уже не сжечь,
- В петле не сжать, живьем не съесть,
- Не расстрелять, как Двадцать шесть
- В песках за Красноводском…
- Стоит мой друг над стаей волчьей,
- Союзом братских рук храним,
- Не слыша, как сам Сталин молча
- Во время речи встал за ним.
- Встал, и стоит, и улыбается —
- Речь, очевидно, ему нравится.
Потом Симонов пересмотрит свое отношение к Сталину. Хотя никогда не станет выписывать его портрет одной краской. А в этом стихотворении важнее всего интонация.
Живые и мертвые
После смерти Сталина Симонову, молодому многократному лауреату, который в 1940-е вознесся до небес, пришлось непросто. Он даже на несколько лет уехал из Москвы в Ташкент – в творческую командировку. Казалось, его время прошло… Но Симонов вернулся с новым романом о первых – черных – месяцах войны – «Живые и мертвые». Кто еще мог поведать об этом времени, если не он? Он снова сказал правду о войне – таково было читательское ощущение. Последовали продолжения, роман превратился в эпопею. Это взгляд на войну и «двадцать лет спустя», и – из 1941 года. Это книга о стране, об армии, о партии. Ее нельзя подстраивать под нынешние – легковесные – представления о том времени. Симонов точнее и мудрее тех, кто сегодня его трактует. А взглянуть со своих героев с исторической дистанции он умел по-толстовски.
Разные дни войны
Симонов – талантливый журналист, интересный, неординарно (и в то же время – без эпатажа) мыслящий собеседник. Нас всегда будут интересовать и его документальные произведения. «Разные дни войны» - это его фронтовые записи, дневники, дополненные через несколько десятилетий. Наслаждение для ума. Там есть лирические отступления, но чаще – перед нами аналитик, честный перед самим собой. Из этой книги вышло почти все, что написал Симонов, но она ценна и сама по себе. Думаю, читать ее будут всегда.
…До сих пор у нас нет достойного памятника Симонову. Стоит скромный бюст в Саратове, во дворе колледжа кулинарного искусства. Странная несправедливость – особенно в наше время, когда монументы – нередко невыразительные – по всей стране растут, как грибы. Почему бы не установить скульптуру возле московского дома, где он жил? Там есть подходящий сквер. А, может быть, поважнее памятников то, что продолжается читательская цепочка, и Симонов не умирает?.. Наверное, рано ставить памятник.