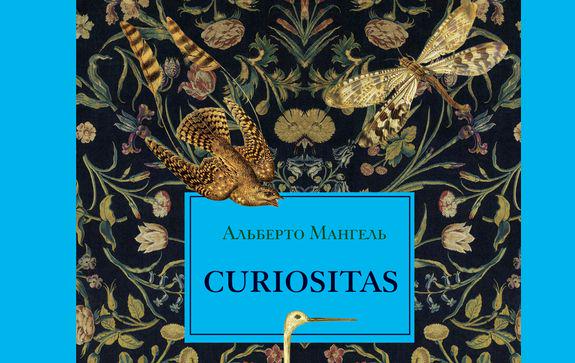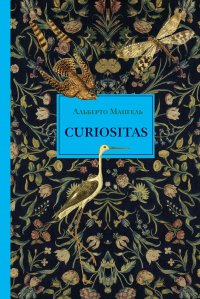Текст: ГодЛитературы.РФ
Обложка и фрагмент книги предоставлены Издательством Ивана Лимбаха
В молодости Альберто Мангель (р. 1948) несколько лет был чтецом ослепшего Хорхе Луиса Борхеса. В сущности, этого достаточно, чтобы понять, что это за писатель. Но тем не менее добавим, что, переехав в Канаду, он стал автором более двадцати книг нон-фикшн, составил как редактор и переводчик несколько десятков антологий, написал пять романов, а главное — ни на что не похожий «Словарь воображаемых мест» — путеводитель по вымышленным безымянными слагателями мифов и конкретными авторами Нового времени городам и странам.В объемистой книге, названной латинским словом Curiositas, автор доказывает и показывает на многочисленных примерах всех времен и эпох, от Сократа и Фомы Аквинского до Льюиса Кэрролла и Франца Кафки: любопытство — это не пошлое желание знать содержимое кошелька и кастрюли своего соседа, а одна из тех могучих страстей, которыми движется человечество. О чем прямо говорится в предпоследней главе, часть которой мы с разрешения издательства публикуем.
Альберто Мангель. Curiositas. Любопытство / Пер. с англ. А. Захаревич – СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Глава 16. Что всем движет?
Я думаю, что оказался в аду,
Значит, я в самом деле в аду.
Артюр Рембо. «Ночь в аду»
Есть на земле места, откуда возвращаются, только чтобы умереть. 13 декабря 1943 года двадцатичетырехлетний Примо Леви был арестован фашистской милицией и заключен в лагерь в Фоссоли, под Моденой. Поскольку он признался, что является «итальянским гражданином еврейской расы», спустя девять недель его вместе со всеми другими еврейскими узниками отправили в Освенцим. Всех отправили, — вспоминает он, — «даже детей и стариков, даже больных». В Освенциме Леви и пяти другим членам их химической команды было поручено выскребать днище вкопанной в землю топливной цистерны.
Труд был изматывающим, нечеловеческим, опасным. Самым молодым в группе оказался студент из Эльзаса по имени Жан, ему было двадцать четыре года, и он выполнял работу Pikolo, курьера-секретаря, в запутанной до абсурда бюрократической системе лагеря. Выполняя очередное поручение, Жану и Примо Леви пришлось провести вместе час времени, и Жан попросил Леви поучить его итальянскому. Леви согласился. Много лет спустя, вспоминая этот эпизод в биографической книге Se questo è un uomo («Человек ли это?»), которая в Америке вышла под названием Survival in Auschwitz («Выжить в Освенциме»), он рассказывает, что ему каким-то неведомым образом вдруг вспомнилась «Божественная комедия», а именно эпизод с Улиссом. Пока они вдвоем шли к кухне, Леви на плохом французском пытался объяснить эльзасцу, кто такой Данте, как построена «Божественная комедия» и почему обманувшие троянцев Улисс и его друг Диомед обречены вечно гореть в двойном пламени. Леви начал зачитывать Жану восхитительные строки:
С протяжным ропотом огонь старинныйКачнул свой больший рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный,
Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда…»
И всё. Память подводит нас в благополучные времена, да и в самые суровые ведет себя не лучше. На ум приходят фрагменты, обрывки фраз, но этого мало. И тут Леви вспоминает еще строку — «Ma misi me per l’alto mare aperto»:
И я в морской отважился простор…
Жан ходил в море, и Леви уверен, что прежний опыт позволит ему понять всю экспрессивность этого misi me, звучащего гораздо сильнее, чем je me mis в «приблизительном» переводе Леви на французский; misi me — это когда готов броситься через ограждение, вперед, к тому, что так светло́ и манит: «Как живы и как далеки сейчас от нас эти воспоминания!»
Краткая передышка вот-вот завершится, Леви вспоминает еще несколько строк:
Подумайте о том, чьи вы сыны:Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены.
И вдруг стихи начинают звучать у него в голове, как будто он сам слышит их в первый раз, «как будто ангел вострубил, как будто раздался глас Божий». На какой-то миг Леви забывает, кто он и где находится. Он пытается растолковать Жану зачитанный текст. Затем вспоминает еще:
Когда гора, далекой грудой темной,Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.
Дальше строк не хватает. «Я бы отдал сегодняшний суп, лишь бы вспомнить, что идет за „такой огромной“», вспомнить финал. Леви закрывает глаза, грызет ноготь. Поздно, они уже дошли до кухни. И тут память бросает ему россыпь строк, как монеты нищему:
Три раза в быстрине водоворота;Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то…
Леви останавливает Жана: для него жизненно важно, чтобы молодой человек дослушал и понял слова «как назначил Кто-то», пока еще не поздно; завтра один из них может умереть или они просто больше не встретятся. Он должен объяснить ему «про очень важный, такой гуманный смысл этих слов, наверняка звучавших анахронизмом в средневековье, и про этого гигантского, необъятного „Кого-то“, к которому — я вдруг, словно по наитию, понял это сейчас — и должны быть обращены все наши „почему“». Они встают в очередь «в толпе голодных и оборванных «супоносов» из других команд». Слышат объявление о том, что суп сегодня из капусты и репы. И Леви вспоминает последнюю строку:
И море, хлынув, поглотило нас.
Что же скрывает поглотившая Улисса волна, кого Леви называет «гигантским, необъятным», о чем хочет поведать? Едва ли на долю читателя выпадало пережить нечто более значительное по сравнению с тем, о чем пишет Примо Леви. Не знаю даже, как это охарактеризовать и уместно ли здесь сравнение, ибо есть вещи, которые язык назвать не в состоянии. Но пусть даже вся полнота того, что можно испытать, останется невыраженной: язык в особые минуты озарения позволяет нам прикоснуться к неизъяснимому. Во время странствия Данте не раз сетует на то, что ему недостает слов; их отсутствие как раз и помогает Леви открыть в дантовских строках нечто от его собственного немыслимого положения. Виденное Данте воплотилось в словах поэмы; опыт Леви — в словах, ставших осязаемыми или растворившихся в живой материи, канувших в нее.
Заключенных в лагере лишали абсолютно всего, их тела и лица истощались до неузнаваемости, имена заменялись номерами, выколотыми на коже; слова на миг воссоздали нечто, казалось отобранное навсегда. Заключенным Освенцима, стремившимся сохранить свои имена, то есть остаться людьми, нужно было (как говорит Леви) «собрать все силы, чтобы их не забыть и сохранить частичку самих себя, себя прежних, составлявших когда-то с нашими именами одно целое». Так, общаясь с Жаном, впервые (как говорит Леви) он ощутил, что в языке недостает слов, чтобы описать процесс уничтожения человека.
Термин «лагерь смерти» обретает двоякий смысл, но и этого мало, чтобы передать происходящее. Не случайно Вергилий не может открыть перед Данте врата Дита в Девятой песни «Ада»: ведь ад, если это ад, не постичь разумом так же, как многое постигается средствами языка — даже если это золотые слова великого античного поэта. Происходящее в Аду остается за пределами ведения языка, ибо подчинено лишь неизъяснимому началу — это его имеет в виду Улисс, когда говорит: «Как назначил Кто-то…»
Но есть одно крайне важное, принципиальное различие между Освенцимом и дантовским Адом. В Аду невинным место лишь в первом круге, где кара заключается в безнадежном томлении, в остальных же кругах свершается возмездие, и каждый грешник терпит наказание по заслугам. Освенцим, наоборот, — место наказания без вины, а если вина и есть (все мы не без греха), то страдать уж точно приходится не за нее. В Аду у Данте всем виновным ясен их грех. Сколько бы раз поэт ни просил их поведать свою историю, они всегда находят слова, чтобы объяснить причину своих страданий; а если не признают за собой вины (как Бокка дельи Абати), то причиной тому гордыня, гнев или желание забыть. Человек стремится не столько слышать, сколько быть услышанным, говорит Данте в трактате «О народном красноречии»: нам «по нраву преображать естественные переживания в упорядоченное действие». Грешники говорят с Данте, чтобы он их выслушал; для этого мертвым и дан язык, даже если пророк Давид с этим утверждением не согласен.
Данте, продолжающему жить в этом мире, снова и снова не подобрать нужных слов, описывая сначала страшные, а затем возвышенные сцены, зато те, на ком лежит проклятие, не знающие ни утешения, ни покоя, чудесным образом наделены даром речи и рассказывают о том, что совершили, чтобы продолжать существование. Даже в Аду язык дарует нам бытие. Но в Освенциме средствами языка нельзя ни признаться в несуществующей вине, ни описать жестокие и бессмысленные муки, и слова получают иной, искаженный и страшный смысл. Ходила даже шутка (в обители страдания все же есть место для иронии): «Как будет на лагерном жаргоне „никогда“? Morgen früh — „завтра утром“». В то же время для иудеев язык — а точнее, буква бет — суть орудие, которым Бог творил мироздание, и потому она нетленна, как бы кощунственно с ней ни обходились.
Разум, носитель языка, стал движущей силой человечества — не плотью, но вместилищем. Соответственно, ортодоксальные иудеи верили, что понятие «героизм» неразрывно связано с представлением о неустрашимости духа, а представление о «святом бесстрашии», что на иврите выражено как Kiddush ha-Shem («освящение Божественного имени»), стало источником сопротивления нацистам. Ортодоксы считали, что смертным не истребить зло в материальном смысле, оно неподвластно физической силе: торжествовать ли злу или нет, решается Божественным промыслом. Истинным оружием сопротивления были для большинства ортодоксов вера, молитва, размышление и благочестие. «Они верили, что прочитанный псалом повлияет на ход событий больше, чем убитый немец, — быть может, не сразу, но когда-нибудь, в бесконечности связей Творца с созданиями Его, — непременно».
Наказание Улисса, как и остальных душ в дантовском Аду, определено им самим в то время, пока длилось для него общение с Создателем. В представлении Данте, мы, а не Бог ответственны за свои поступки и их последствия. Мир Данте отличается от мира Гомера, в котором капризные боги играют людскими судьбами — чтобы потешиться или преследуя некую личную цель. Бог, в представлении Данте, каждого из нас наделил различными дарованиями и возможностями, но также дал нам свободу воли, предполагающую выбор и ответственность за него. Даже свойство наказания, как полагает поэт, зависит непосредственно от нашего проступка. Улисс обречен незримо гореть внутри раздвоенного пламени, поскольку его грех — побуждение к обману — неявен и при этом совершен в речах, через язык, так что огненные языки не случайно стали для него источником вечной муки. В дантовском Аду любое наказание будет обусловленным. Освенцим — ад совсем другого рода.
Сразу по прибытии в лагерь, в разгар суровой зимы, мучаясь от жажды, Леви, запертый в пустом неотапливаемом бараке, видит висящую за окном сосульку. Он высовывает руку и отламывает этот кусочек льда, но тут сосульку вырывает охранник, отшвыривает ее и толкает Леви назад, на место. «Warum?» — спрашивает узник на своем скудном немецком: почему? «Hier ist kein warum», — отвечает охранник: здесь нет никаких «почему».
В этом уничижительном ответе вся суть лагерного ада: в Освенциме, в отличие от мира Данте, «зачем» не спрашивают. В XVII веке немецкий поэт Ангелус Силезиус описал красоту розы словами: «Die Rose ist ohne warum» («Не спрашивай у роз, в чем тайна их цветенья, / Они цветут — и все, без смысла, без значенья»). Конечно, это совсем другое «почему»: для розы вопрос существует вне описательных возможностей языка, но остается в сфере языкового познания. В Освенциме «почему» невозможно в любом случае. Чтобы это понять, мы, как Леви и Данте, должны быть настойчивыми в своем любопытстве, ведь язык всегда будет нас разочаровывать. Снова и снова пытаясь облечь опыт в слова, мы отклоняемся от цели: язык слишком беден и не может воспроизвести обретенное знание сполна; в радости он несовершенен, а в горе приносит страдания. Данте нелегко описать увиденный им в начале лес, однако, «благо в нем обретши навсегда», он полагает, что должен это сделать. И все же, по словам Беатриче, «мысль и воля в смертных жертвах гроба, / …В своих крылах оперены особо».
Сколько бы мы, одаренные куда скромнее, чем Данте, ни упорствовали, язык создает собственное семантическое поле. Это поле — непременно многослойное, ведь наше отношение к языку — это отношение к прошлому, но так же и к настоящему, и к будущему. Используя слова, мы пользуемся опытом, накопленным в них прежде; пользуемся множеством смыслов, заключенных в слогах, которые мы произносим, чтобы сделать читаемую картину мира понятной и нам самим, и другим. То, как эти слова использовали до нас, обогащает и преображает, оправдывает или делает сомнительным наш выбор: говорим мы всегда на разные голоса, и даже первое лицо единственного числа на самом деле — множественное. А если речь наша — это языки огня, то можно сказать, что многие из них пламенеют еще с древних времен. Первые отцы христианской Церкви самозабвенно искали пути, чтобы привести языческую мудрость в согласие с заповедями Иисуса, и, прочтя в Деяниях святых апостолов, что «научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах» (7, 22), решили, что именно от Моисея вся греческая философия и пошла. Раз Моисей учился у египтян, значит, в его речах крупицы истины черпали предтечи Платона и Аристотеля.
Существует предположение, будто бы из-за чередования гласных имя Моисей превратилось в Мусей, и этот легендарный певец, предшественник Гомера, был учеником Орфея. Потому в XII веке просвещенный Ришар Сен-Викторский, которому Данте отвел место в Раю рядом со святым Исидором Севильским и Бедой Достопочтенным, назвал Египет «матерью всех искусств». В конце IV века святой Иероним в ответ на обвинения в том, будто он благоволит всполохам древней языческой поэзии больше, чем искупительному пламени христианства, утверждал, что, дабы познать сполна Божественный мир, нужны лучшие средства. Цицерон и его собратья, хоть и были глухи к слову истины, все же привели к совершенству язык — свое орудие, которое христианские авторы отныне могли применять с пользой. Однако в том, какой источник мудрости является верным, сомнений нет.
В письме к находящейся в монастыре Элоизе, написанном около 1160 года, преподобный Петр Достопочтенный хвалит решение принять постриг после трагической любовной истории, связавшей ее с Пьером Абеляром. «Изучению всевозможных наук, — пишет он, — вы предпочли лучшее знание, логике — Евангелие, открытию природы вещей — „Апостол“, Платону — Христа, ученой академии — монастырь. Вы всецело и истинно философ в женском лике».
Спустя тысячу лет после Иеронима Данте утверждал, что не только язык и ранние представления, но и все языческое воображаемое служит высшей цели, так что в «Божественной комедии» у христианских святых и древних богов, граждан Флоренции и героев Греции или Рима один долгий трехэтапный путь, в котором ничто себя не изживает. В первом круге Ада Вергилия встречают поэты, творившие до него, и сам Гомер приветствует его возвращение в «высокий замок» словами «Почтите высочайшего поэта». В «славнейшую из школ» спутники Гомера приглашают также Данте, и, хотя Вергилий с улыбкой наблюдает за преувеличенными почестями, с которыми встречают флорентинца, отныне дантовское искусство принадлежит этому неустаревающему поэтическому лимбу, а слово, вместе с трудами его наставников, познает торжества и поражения. Ведь это всеобщее наследие. «Былой огонь», в котором признается Дидона в «Энеиде», вновь воспылал в словах, обращенных Данте к Вергилию в Чистилище, когда он наконец видит Беатриче: «Следы огня былого узнаю», — произносит он с благоговением. И точно так же, но совсем в другом контексте, не метафорическом, описан у поэта язык пламени, из которого обращается к нему душа Улисса в Аду: в этом горении — краски любовного чувства, питавшего огонь прошлого.
Впрочем, не будем забывать, что «былой огонь», охвативший душу Улисса, поглотил также и Диомеда. Древнее пламя раздвоено, однако услышать можно лишь то, что произносит «больший рог». И потому резонен вопрос, как будет молчащий Диомед рассказывать свою часть истории.