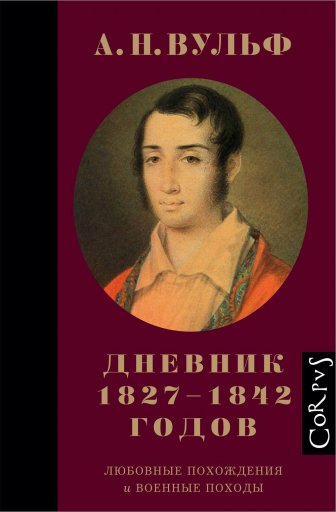Текст: Михаил Визель/ГодЛитературы.РФ
Фото: фрагмент обложки, представлено издательством Corpus
- Здравствуй, Вульф, приятель мой!
- Приезжай сюда зимой,
- Да Языкова поэта
- Затащи ко мне с собой...
Такими бодрыми строками 25-летний Пушкин приветствует 19-летнего студента Вульфа. Пушкин в это время работает над «Борисом Годуновым» - но в дружеском послании об этом ни слова. Пушкин знает - его адресат не оценит.
Псковскому дворянину Алексею Николаевичу Вульфу очень повезло и очень не повезло. Повезло - потому что Тригорское, имение его матери, оказалось ближайшим к Михайловскому, имению Пушкиных, в котором опальный поэт изживал ссылку 1824–1825 годов. Благодаря чему два молодых человека, едва ли обменявшиеся в Петербурге парой слов (хотя бы потому, что Пушкин был шестью годами старше Вульфа, что на третьем десятке не мелочь), довольно близко подружились.
- Так люди - первым каюсь я -
- От делать нечего друзья.
Мы все помним эти строки из «Онегина». К тому же Вульф учился в немецкоязычном (в то время) Дерптском (Тартусском) университете, так что ироничное замечание «с душою прямо геттингенской» к нему тоже вполне применимо. Но Вульф, разумеется, так же не Ленский, как Пушкин - не Онегин. Во-первых, он никогда не писал стихов. Во-вторых, никогда не отличался «восторженной речью». Да и «кудри черные до плеч» в этой паре приятелей скорее были свойственны Пушкину...
Но самое главное - Вульф, со всем его дворянским воспитанием, университетским образованием и литературными знакомствами (он был однокашником поэта Языкова, с которым и познакомил Пушкина, а через Языкова оказался коротко знаком с Дельвигом и даже приударял за его женой) и недолгой офицерской службой был человеком абсолютно заурядным. И в этом состоит главное его невезение. И это же придает его «Дневнику», который он начал вести по настойчивому предложению Пушкина, уникальное свойство «машины времени». Мы видим Пушина, Дельвига, слышим толки о важнейших событиях того времени - и видим и слышим их неискаженными, словно записанными чувствительной видеокамерой, одинаково фиксирующей беседы с Пушкиным и этапы обольщения всех барышень (и замужних дам), до которых «носитель» этой «видеокамеры» только может досягнуть.
Именно любвеобильность Вульфа - а если называть вещи своими именами, его разврат из «спортивного интереса», - долгое время препятствовала полной публикации дневников «прототипа Ленского». Читать их было неприятно даже пушкинистам. Точнее, в особенности пушкинистам - потому что они с досадой убеждались, что пока их кумир писал барышням и дамам - той же Анне Петровне Керн - восторженные стихи, его младший приятель действовал куда проще и эффективнее.
Но время, как известно, лучший судья и лучший врач. По прошествии двухсот лет обида испарилась, остался ценнейший документ. Запечатлевший не только «любовный быт пушкинской эпохи», но и просто - дух эпохи. И доносящий его до нас точнее, чем костюмные сериалы, в которых герои носят русские имена, но щеголяют английскими мимическими морщинами.
Фрагмент книги и обложка предоставлены издательством Corpus
Текст дневника Вульфа воспроизводит особенности его орфографии и пунктуации.
1827
16 сентября
Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался).
По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu с Bibliothéque de campagne и “Журналом Петра I”, виден был также Alfieri14, ежемесячники Карамзина и изъяснение снов, скрывшееся в полдюжине альманахов; наконец две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник.
Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгой такого общества, а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил.
Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать “Годунова” с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею. В “Стеньке Разине” не прошли стихи, где он говорит воеводе астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: “Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму”. Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его “Графа Нулина”: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп.
Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: “Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову”.
Играя на биллиарде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря”.
<…>
1834
18 февраля. Село Малинники
Я руки в боки упираю
И вдохновенно восклицаю:
“Здесь дома я, здесь лучше мне!
Вот так-то мы остепенимся!”
Вот эпиграф к настоящему моему быту из последнего послания ко мне возлюбленного Николая Михайловича. На пути из Псковской губернии в сию заезжал я на несколько дней в Петроград, чтобы в день именин Анны Петровны навестить ее, и нашел у А. Пушкина, что ныне камер-юнкер, послание ко мне, про существование коего мне и не снилось. Эти четыре стиха я выписал из оного.
19 февраля. Понедельник
Кроме удовольствия обнять Анну Петровну после пятилетней разлуки и найти, что она меня не разлюбила, несмотря на то что я не возвращался с нею к прежнему нашему быту, имел я еще и несколько других, а именно: познакомился с двумя братьями моего зятюшки Бориса — с баронами Михаилом Сердобиным и Степаном Вревским, людьми очень милыми в своем роде; потом представлялся я родственницам и приятельницам матери — госпожам Кашкиным, на свидание с коими мать теперь поехала туда же; рад я был видеть и недоступных Бегичевых, из коих старшей я подрядился чинить перья; наконец, у стариков Пушкиных в доме я успел расцеловать и пленившую меня недавно Ольгу. Вот перечень всего случившегося со мною в столице севера, если я прибавлю еще то, что видел моего сожителя варшавского Льва Пушкина, который помешался, кажется, на рифмоплетении; в этом занятии он нашел себе достойного сподвижника в Соболевском, который по возвращении своем из чужих краев стал сноснее, чем он был прежде.
Я было и забыл заметить также, что удостоился я лицезреть супругу А. Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел мало изменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок.
Он говорит, что он возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи.
1 апреля
Две недели тому назад познакомился я с родственницами, довольно дальними, с которыми бы можно было даже законно сблизиться священными узами: с девицами Бакуниными. Числом их шесть сестриц, очень милые, кажется, к тому же и певицы, и плясавицы, но всё это никак не манит меня к супружеской жизни. Отец их — препочтенный и преобразованный старик, которого я очень полюбил; и хозяйка, настоящая-то родственница наша, — прелюбезная женщина, которая меня обласкала, как истинно родного.
23 августа
Шесть месяцев, что я живу в одиночестве здесь, прошли так быстро, что я их не заметил. Ежедневный надзор за хозяйством оставлял мне мало времени для других занятий, а еще менее — для жизни умственной с самим собою. Физическая деятельность и отдых после оной сменялись только разъездами к почтенной моей родне.
Заехав однажды, в Троицын день, в Тверской уезд, в дом Ушаковых (они родня моей родне, а у сына их я служил три года в эскадроне), нашел я там, кроме трех премиленьких девочек (хозяйка дома — одна, а две — мои здешние соседки Ермолаевы), очень приятное общество и молодежь нынешнего и прошлого века, так что три дня, которые там я провел, кажутся мне теперь столь приятными, как редко я их проводил. С Ермолаевыми я врал и нежничал, а с одним юношею-поэтом, князем Козловским, твердил стихи Языкова; это первого встречаю человека, который, не знав Языкова, знал бы наизусть столько же стихов, сколько и я их знаю. Чего же мне нужно более? Потом я встречался опять с некоторыми из лиц, там бывших: с двумя темно-русыми сестрицами Ермолаевыми, но всё мне не казалось столь приятным их общество, как в первый раз это было. Они пленяли меня в разных видах и уборах и песнями, и плясками, но очарование новизны исчезло, точно так и надежды на быстрые успехи, которые всегда сначала мне льстят…