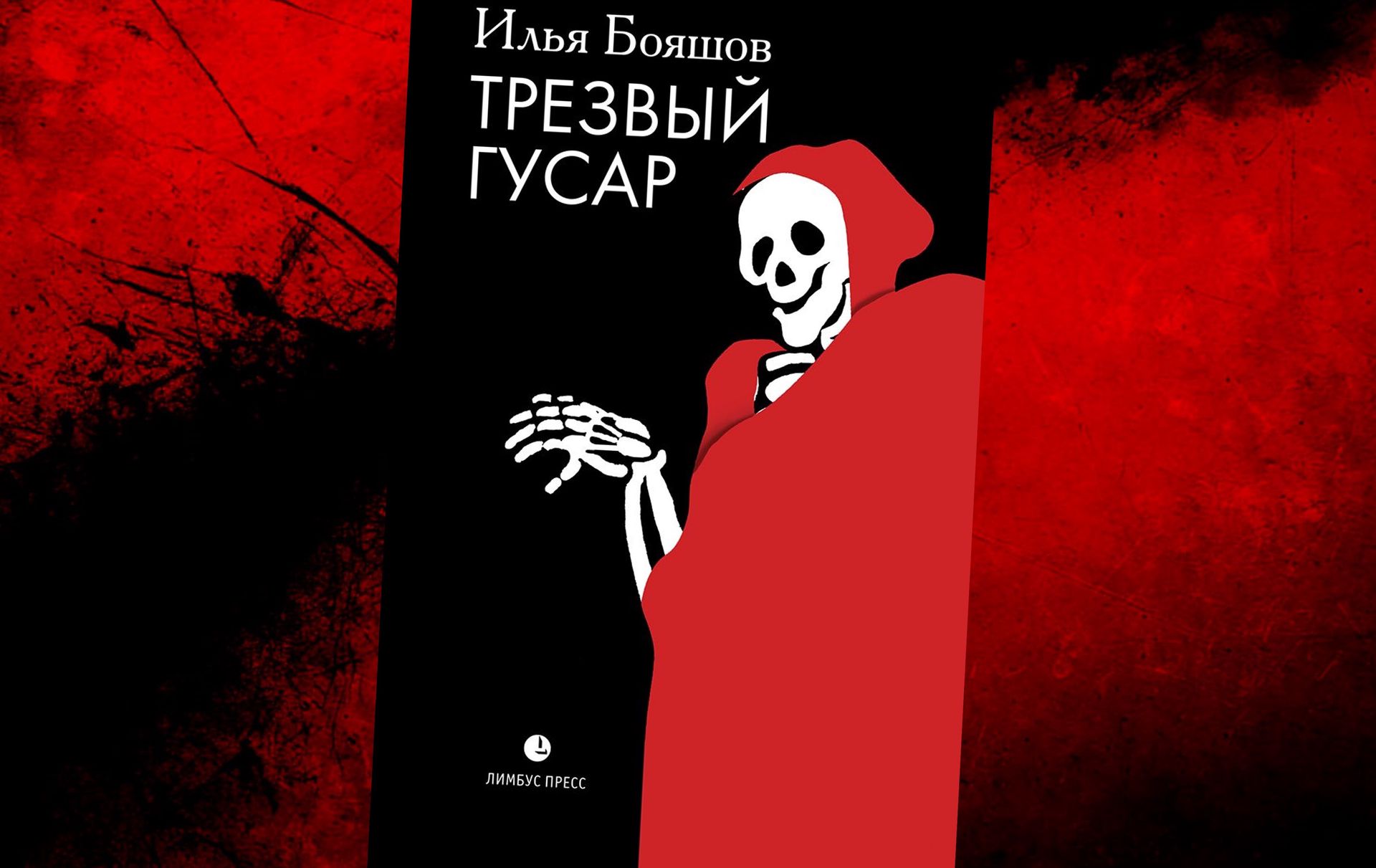Закончилась пятая Школа критики имени В.Я. Курбатова - проект крупнейшей литературной премии "Ясная Поляна". Выпускники школы написали рецензии на книги из Короткого списка "Современная русская проза" - главной номинации премии. В рамках сотрудничества "Года Литературы" с "Ясной Поляной" мы будем делиться ими с нашими читателями.
Текст: Сергей Лебедев
Илья Бояшов, "Трезвый гусар"
СПб.: Лимбус Пресс, 2024. - 256 с.
У России две беды – пьяные дураки и железные дороги. Но если их свести вместе, то для империи забрезжит свет в конце тоннеля. Раз такое в истории уже случилось, и был от того короткий период счастья – ни войн, ни революций. Это если верить Илье Бояшову и его «Трезвому гусару». Но оксюморон, вынесенный в заглавие повести и на обложку всей книги, обманет не раз – и кавалерист запьет, и страна пропадет, и остроумная стилизация обернется пресноватым детективом, а затем и вовсе уступит место добротному рассказу про садовода екатерининской поры, за которым последует квазитравелог пополам с краеведением да под коньячок с лимоном. Но во всем этом автор неизменен себе – человек как поле битвы ангела и беса по-прежнему волнует его больше занимательной байки.
С этой темой он как ворвался в большую литературу, «Путем Мури» и когтями его усато-полосатого героя выцарапав в 2007-м «Национальный бестселлер» у Сорокина, Быкова и Улицкой (все сплошь сегодня иноагенты), так и продолжил развивать ее в той же притчевой манере во всех своих последующих романах, будь то послуживший экранизации «Белый тигр» или обойденный, что редкость, премиальными списками «Конунг». При этом Бояшов никогда не чурался никаких жанров, кроме скучного, смело мешая в своем творческом тигельке исторические факты с фэнтези, антиутопию с библейскими сюжетами, греческими или скандинавскими мифами, американский романтизм с лейтенантской прозой.
А в «Трезвом гусаре» читателя ждет не только жанровый, но и стилистический калейдоскоп – одноименная история дюжего конногренадера начинается как узнаваемый лесковский сказ, но скоро сменяется откровенной чертовщиной, будто бы нам новый Гоголь явился. Также ему уготованы архивный полицейский протокол и газетная хроника, собранная из обрывков туманной петергофской готики и прочей русской классики, с аллюзиями на Карамзина, А.К. Толстого, Леонида Андреева, Тынянова и Аверченко. Главный герой этой чехарды – сумский молодец Михайло Музыка, вытащенный из пекла белой горячки небесным посланником, должен донести до царя не то, что англичане иже с ними ружья кирпичом не чистят (Левше, как помним, это не удалось), но уже погибель богоспасаемой Руси готовят. Для этого ему всего-то и надо, что больше ни капли хмельного в рот не брать и наказ ангельской девы императору при случае напомнить. А об источнике тех знаний велено строго молчать. Но недолго Музыка держался – бесы и здесь его смогли провести и ввергнуть в необратимый, годами длящийся запой вплоть до пришествия нового, двадцатого века. Впрочем, до наступления известных теперь исторических событий сюжет про некогда трезвого гусара успел получить второе рождение – если поручик Ржевский в свое время вышел из пьесы Александра Гладкова про кавалерист-девицу и зажил самостоятельной, причем сугубо анекдотической жизнью, то у Бояшова очередной виток повествование получило уже в отрыве от самого персонажа: как только тот сгинул в Заячьем Ремизе (еще один привет автора любимому Лескову), его биографией поспешили воспользоваться грабители, репортеры, сыщики и студенты-естествоиспытатели, понеся историю по кочкам Гатчины во все стороны и на все лады. После чего сам рассказчик у Бояшова, словно спохватившись, предпочел героя снова и так же бесславно похоронить под каскадом смутных галлюцинаций. А в итоге «пропала Расея» за стакан крепленого морса, и ждать ли теперь нам спасения, тайна великая есть.
Но не только из-за этой, замаячившей и растаявшей, как морок, надежды, и не из-за фирменной бояшовской литературной игры с легким налетом мизантропии дружно двинули эксперты «Трезвого гусара» в номинанты главных отечественных литпремий 2025 года. Уже в самой повести сквозит не «бескорыстие и бесцельность», как однажды Александр Мелихов охарактеризовал манеру Бояшова, а рефлексия о дне сегодняшнем, густо сдобренная плохо скрываемым сарказмом – вроде бы поучительная выдумка про насущную национальную идею и вместе с тем «сеанс черной магии с полным ее разоблачением». Хотя именно в «Гусаре» это обнажение приема из-за двоякой, игровой природы текста считывается не сразу. Зато в «Исландии», второй части книги с разрозненными заметками под шапкой «Петергофская тетрадь», рассказчик уже не прячется в изыски стиля, а более доходчивым языком проговаривает простые вещи. Тут стоит вспомнить, как в свое время Кирилл Гликман, обозревая тогда актуальное, а для нас уже раннее творчество Бояшова, заметил про его небольшой, иронически-пессимистичный роман «Армада» об уничтожении Америки, что после прочтения он «оставляет странное ощущение», будто «за книгой должен последовать некий ее сиквел. Только не сюжетный, а философский, если можно так выразиться, — развернутые авторские комментарии». И вот почти полтора десятилетия спустя Бояшов в формате именно такого подстрочника наконец-то выступил: в «Исландии», исполненной в жанре table talk с самим собой, есть ответы и на принципиальные для автора вопросы, и ремарки, перекликающиеся с идеями всех вошедших в книгу текстов – в первой части «Трезвого гусара» за повестью о спившемся поручике следует еще «Райское яблоко», рассказ о простодушном священнике-селекционере, вознамерившимся не без науськивания слуг ада возделать эдемский сад под боком у императрицы.
В целом «Исландия» при внешней простоте – хитроустроенный текст-лабиринт, предполагающий блуждание по лабиринтам уже сознания, где из внезапного тупика досужей мысли следует парадоксальный вывод, и наоборот («Человечество любит придумывать себе разнообразные трудности. Следовательно, оно любит лабиринты»). Недаром в нем значительное место занимает исторический экскурс о месте таких головоломок в мировой культуре с последующим обобщением в соответствующем антураже. Рассказчик никуда не едет, а тихо пьет на лавочке в любимом петергофском парке: «Я опять наполняю рюмочку. Я продолжаю думать о вещах банальных. Суть их в том, что существование наше есть весьма запутанное, в некоторых случаях почти безвыходное блуждание в комнатах, коридорах и бесчисленных переходах, иногда даже схожее с фаюмским или кносским…»
Разумеется, главный эффект прозы Бояшова, как и всегда, в языке – в «Гусаре» и «Яблоке» писатель так непринужденно использует барочные построения, что читатель воспринимает их как вполне естественные для словесности нашего века. А в «Исландии» он переходит на столь беглый разговорный, и вместе с тем артикулируемо четкий литературный слог, что это изящество искупает самые, казалось бы, неуместные среди поднимаемых общечеловеческих проблем сентенции приземленного мещанина. Но – поэзия должна быть глуповата, и Бояшов, по-видимому, учитывает эту заповедь Пушкина (и «наше все» встревает здесь по поводу и без: «Вновь о Пушкине! Те, кто ужасается реалиям Чеченской войны, не знакомы с «Историей Пугачевского бунта»). К тому же среди сильнейших, буквально ударных частей в записках об Исландии, где автор никогда не бывал, надо назвать его лирические отступления, подлинные стихотворения в прозе – вдохновенные признания в любви к грозе. Точнее, гимны трем грозам, одна из которых, наблюдаемая в начале нынешнего десятилетия над Мамаевым курганом, словно бы разбудила демона давно ушедшей войны.
Тут важно отметить, что связующим звеном всей книги выступает петергофская церквушка Знамения Божией Матери – первая в этих краях. Вокруг нее когда-то бродил Пушкин, сочиняя «Руслана и Людмилу», вокруг нее выстроены все три текста «Трезвого гусара». И ее символическое значение подобно колокольне Балабанова из последней кинокартины этого сугубо петербургского режиссера «Я тоже хочу» (2012) – это те самые ворота счастья, куда берут не всех, но в створ которых виден свет в конце тоннеля. Одна незадача – от храма в Петергофе не осталось ни камня. Но рассказчик уверен, что даже «распря» последних лет завершится сразу после того, «как Знамение поднимется вновь» – в реальной жизни автор ратует за его восстановление.