Интервью: Галина Рымбу
Фото: Анна Васильева
На фото: Павел Заруцкий

Куратор выставки — поэт, переводчик и исследователь греческой авангардной литературы Павел Заруцкий. Накануне открытия выставки Галина Рымбу поговорила с Павлом о том, как возник его интерес к экспериментальной и визуальной поэзии, насколько релевантно сегодня пользоваться печатной машинкой при написании стихов, почему современных визуальных поэтов привлекают устаревшие печатные техники, а также о греческом авангарде и переводах русскоязычной поэзии на греческий язык.
Расскажи, откуда у тебя возник интерес к визуальной и экспериментальной поэзии?
Павел Заруцкий: Мой интерес к литературным экспериментам, наверное, можно объяснить моим собственным творчеством. В 17—18 лет я был «денди», символистом и отчаянно стремился отточить собственную технику и найти единомышленников. Но чем техничнее я становился, тем больше чувствовал фальшь в собственных стихотворениях. Мне казалось, что в угоду форме я использую слишком много совершенно ненужных слов. Революция произошла внезапно — первые свои верлибры я написал, находясь под глубоким впечатлением от графики Пикассо. Потом было знакомство с дада и сюрреализмом, и с тех пор ни моя жизнь, ни мое творчество уже не были и не могли быть прежними.

Годы спустя, прочитав «Теорию авангарда» Бюргера,
я нашел точную формулировку того, к чему стремился в то время — слить воедино искусство и жизненную практику,
а также, конечно, расставить мины на этом поле для тех, кто пойдет по пути украшательств и декоративности.
«Визуальную» поэзию я полюбил со времен моей подростковой увлеченности дадаизмом, но достаточно долго не рассматривал ее как отдельное направление. Дело в том, что визуальная поэзия стала отдельным направлением во времена послевоенного авангарда, а он разительно отличался от довоенного. Если первые авангардисты стремились сделать творчество образом жизни, то вторые несколько растерянно задавались «вопросом Адорно» — возможно ли вообще поэтическое творчество после Освенцима? И мне тоже потребовалось какое-то время, чтобы перестать воспринимать искусство (и в первую очередь роль автора) как нечто сакральное и оценить, наконец, всю значимость послевоенной экспериментальной поэзии.
Насколько популярна сейчас визуальная поэзия в европейских странах, какие новые смыслы она привносит в и так уже чрезвычайно пресыщенное множеством экспериментальных стратегий поэтическое поле?
Павел Заруцкий: Мне очень сложно согласиться со «множеством экспериментальных стратегий». Большинство из этих стратегий сформировалось уже в 1970-е и 1980-е годы, то есть где-то полвека назад. Конечно же, я сильно сейчас упрощу, но очень часто в современном поэтическом творчестве я вижу развитие тех идей, которые были заложены языкоцентристским журналом L=A=N=G=U=A=G=E, феминистским HOW(ever) и, разумеется, русским концептуализмом. Кроме того, современная визуальная поэзия развивает идеи конкретной поэзии 1960-х годов, а также — того времени, когда она отделилась от «конкретизма», т.е. рубежа 1970-х и 1980-х.
Но если мы говорим о новых смыслах, стоит, как мне кажется, в первую очередь задаться вопросом, в какое время мы живем. А время это очень интересное. Умирает не только верлибр, но и привычный, до сих пор фетишизируемый формат книги.
«ВКонтакте» оккупировали так называемые «сетевые поэты», в то время как более «литературоцентричные» авторы явно отдают предпочтение фейсбуку
и достаточно замкнутому сообществу в рамках данной социальной сети. И в этом контексте куда более новаторским, чем любая публикация в fb (даже если это публикация в посвященной визуальной поэзии группе Vispo!), мне кажется, например, сконструированное как видеоигра стихотворение Мез Бриз и Энди Кэмпбелла «The Dead Tower». Здесь авторы выступают не пользователями, но исследователями новых медиа, дающими поэтическому сообществу нечто новое.
Я очень счастлив, что знаком со многими талантливыми авторами, чьи книги я читаю с невероятным удовольствием. Но мои поэтические амбиции куда скромнее. Мне кажется, что мы не столько формируем современную литературу, сколько ставим вопрос: «А чем может быть литература в XXI веке?»
На грядущей выставке также будет экспозиция печатных машинок из коллекции Александра Трофимова. Релевантна ли сегодня печатная машинка как медиум или она интересна, скорее, с «архивной» точки зрения? Есть ли сегодня поэты, которые продолжают писать на печатных машинках?
Павел Заруцкий: Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно для начала сказать, что, когда я сам начал использовать печатную машинку для своего творчества, то не имел никакого представления, насколько этот медиум остается популярен в наши дни. В этом плане я до сих пор испытываю некоторое одиночество в русскоязычном пространстве. Но если говорить о ситуации во всем мире, то современная машинописная поэзия сейчас является крайне перспективным полем для исследования.
И я невероятно горжусь составом участников выставки «Словомеханизмы». Сия Ринне, на мой взгляд, является одной из наиболее интересных и новаторских поэтесс нашего века, даже без приписки «машинописных». Она использует моноширинность машинного письма для исследования мультилингвальности поэзии, создавая кинетические и звуковые конструкции, в которых поэзия прорывает границы дискретности языка. Это очень впечатляет. Кстати, в прошлом году она получила премию имени Бернара Хайдсика в Центре Жоржа Помпиду.
Дани Спиноза, в отличие от Ринне, уделяет существенное внимание той экспрессии, которую позволяет выразить печатная машинка. Ее эксплицитно феминистское творчество характеризуют оставленные следы печатной ленты, зачеркивания, а также печать одного слова поверх другого. «Физическая» составляющая машинописной поэзии Спинозы, как мне видится, используется как средство для демонстрации некоего травматичного опыта, а также его документации.
Петра Шульце-Вольгаст, возможно, является самым «традиционным» автором, представленным на выставке. Ее привлекают устаревшие печатные техники, в частности, печатная машинка как возможность противопоставить что-то стремительности цифровой реальности. Кстати, Петра издает журнал ToCall — возможно, лучший современный печатный орган, посвященный визуальной поэзии.
С Сашей Трофимовым мы познакомились как раз когда у меня возникла потребность в печатной машинке. В своей поэзии я исследовал самоидентификацию в цифровом пространстве и испытывал нехватку «материальности» своих стихов. С печатной машинкой я смог создавать «экраны», чье виртуальное пространство разворачивалось бы исключительно в воображении читателя. Я узнал, что в Петербурге есть множество любителей печатных машинок. У некоторых, как у Саши и Дениса Букина, есть свои интернет-ресурсы по данной тематике. Совершенно случайно я очутился в новом и совершенно неизведанном для себя мире.
Почему выставка проходит именно в Музее Фрейда? Выбор площадки не случаен? Предполагается ли какое-то психоаналитическое вчитывание в представленные на выставке образцы визуальной поэзии?
Павел Заруцкий: Мы уже десять лет находимся в прекрасных отношениях с основателем музея Виктором Мазиным, и во многом я считаю его одним из своих учителей. Так что когда отпали варианты с более крупными площадками, Музей сновидений Фрейда был для меня крайне естественным выбором. К счастью, команда музея также с энтузиазмом отнеслась к проекту. Если говорить о психоаналитической перспективе выставки, то в музее есть два зала: в первом проводится экскурсия, а во втором зритель остается предоставлен самому себе и собственным ассоциациям и впечатлениям. В рамках выставки пройдет мероприятие «Type-In», где каждый желающий сможет напечатать любой текст на печатной машинке. Мне кажется, что материализация прожитого опыта в формате машинописного текста является в высшей степени психоаналитическим материалом, но вот насколько все будет соответствовать тому, как я это сейчас представляю, покажет только время.

Ты изучаешь и переводишь греческую авангардную поэзию. Как она влияет на твое собственное письмо?
Павел Заруцкий: Любая работа с текстами/произведениями — это всегда диалог, который оказывает влияние как на творчество, так и на мировоззрение. Два года назад я подготовил русское издание «Перамы», последней поэмы греческого «поэта языка» Андреаса Пагулатоса (1946—2010). В поэзии Пагулатоса всегда существует не только написанный текст, но и некое «άλεκτο» («несказанное», «невысказанное»), а само стихотворение рождается в столкновении этих стихий. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать», — писал Витгенштейн. Мне кажется, именно Пагулатос упрочил меня в мысли, что стихотворение — это не только и не столько то, что сказано, сколько то, о чем мы [еще] не знаем, как говорить.
Что отличает греческий поэтический авангард, к примеру, от авангарда русского?
Павел Заруцкий: Гораздо проще сказать, что их роднит: русские футуристы были маргиналами своего времени, а теперь они входят в «историю литературы». Ровно то же самое произошло и с греческим сюрреализмом.
Греческий авангард — неоднозначное явление. К примеру, единственный греческий футурист, Алкивиадис Яннопулос, бывший соратник Маринетти в Италии в 1910-х и начале 1920-х, по возвращении на родину отказался от своего «футуристического» псевдонима и ни разу до 1976 года не объявлял публично о своей связи с футуризмом. Впервые греческий авангард смог отделиться от более консервативной модернистской линии лишь в 1963 году, но уже четыре года спустя власть захватила хунта и установила цензуру, так что на 1970-е годы пришлось формирование греческой «второй культуры», которую в строгом понимании нельзя назвать авангардом, поскольку она скорее была не реакцией на господствующие литературные процессы, но устанавливала некую параллельную, субверсивную «сцену».
Русский авангард оставил после себя обширное теоретическое и практическое наследие.
Греческая же экспериментальная литература ограничилась двумя крайне периферийными манифестами, авторами которых были маргиналы и самоубийцы, а также изысканиями представителей «параллельной культуры», чье творчество, несмотря на его безусловный интерес и значимость в контексте национальной литературы, оставляет ощутимое безграничное пространство для дальнейших экспериментов.
Некоторые поэты сегодня испытывают недоверие к радикальным инновациям в поэзии, считая, что «экспериментальное», «комбинаторное» и т.д. письмо изжило себя и надо действовать тоньше. Что ты думаешь об этом недоверии к поставангардному письму, в чем его истоки?
Павел Заруцкий: Мне кажется, что даже авторы, которые критикуют экспериментальное письмо и утверждают более «тонкий» подход, никак не преуспевают в сокращении разрыва между современной литературой и «простым человеком». «Субкультурность» новой поэзии является ее наислабейшей точкой, о чем написано уже немало. И получается такая занятная дихотомия. С одной стороны, так называемые «сетевые поэты» работают на аудиторию, которая готова платить за «приобщение к прекрасному», а «литературоцентричным» авторам мало что остается, кроме как упиваться своим маргинальным положением, компенсируемым признанием в «сообществе». Мне это видится больной мозолью многих литераторов, и, наверное, я и сам ощущаю это куда сильнее, чем мне хотелось бы думать.
Но, как я уже говорил выше,
современная литература мне не видится по-настоящему со-временной. Мы ищем пути к новым медиа; мы ищем новый язык. И мы еще слишком молоды, чтобы понимать, насколько мы действительно в этом преуспеваем.
Ты был составителем и одним из переводчиков на греческий язык «Антологии молодой русской поэзии», которая вышла в 2018 году в Афинах в издательстве Vakxikon. Скажи, насколько интересна современная русская поэзия греческому читателю? Вызвало ли издание этой антологии какой-то резонанс? Думаешь ли ты еще делать какие-то проекты, связанные с диалогом греческих и русскоязычных читателей и поэтов?
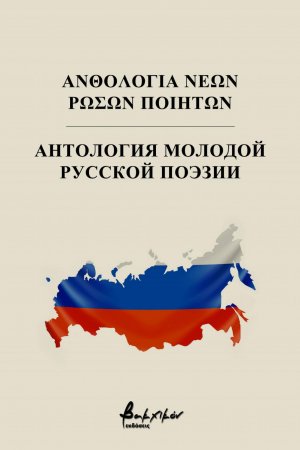
Павел Заруцкий: Издательству Vakxikon меня посоветовал мой друг и известный греческий поэт Димосфенис Аграфиотис (я недавно узнал, что он был членом комитета, присудившего премию Сии Ринне, о которой я говорил выше). У этого издательства очень глобальные планы — они хотят сделать серию антологий молодых поэтов со всего мира. Каждое издание будет включать в себя от 10 до 15 авторов не старше 40 лет, успевших издать от одного до трех поэтических сборников. Составление антологии было для меня крайне мучительным процессом, поскольку антология по определению предполагает выстраивание иерархий, а все мое естество неизменно противится этому. Во вступлении я даже сделал приписку, что за пределами антологии остались «такие значимые имена, как Лев Оборин, Екатерина Захаркив, Роман Осьминкин, Антон Очиров, и многие другие». Я перевел лишь десять текстов авторства двух наиболее близких мне поэтов. И это была невероятно тяжелая работа: часовые дискуссии с ними, а также с блестящим греческим поэтом Линосом Иоаннидисом, который вызвался вычитать мои переводы и отнесся к этому с максимальной серьезностью. Я помню, что, когда Линос увидел результат, он сказал мне, что просматривал другие антологии, и они были куда консервативнее моей. Другими переводчиками были моя подруга, переводчица Катерина Басова, а также гречанка Елена Кациоли, известная своими переводами классической русской литературы.
Вообще
в течение каждого моего визита в Грецию я видел афиши то греческих переводов, то театральных постановок русских классических авторов. Главные имена нашей литературы прекрасно известны в Греции,
но дела обстоят куда хуже в отношении менее конвенциональных авторов. Я неоднократно рассказывал греческим поэтам о Введенском и Зданевиче, которые до сих пор не переведены, и доходило даже до того, что я делал сканы статьи о Пригове из журнала «φρμκ» для одного греческого автора, который не успел купить нужный выпуск и, как следствие, ничего не знал о творчестве Дмитрия Александровича.
Не так давно мне предложили сделать специальный выпуск одного достаточно известного греческого поэтического журнала, посвященный современной русской поэзии. Я очень хочу поучаствовать в этом проекте, но перевод около полусотни произведений десятка авторов — это крайне сложная задача, особенно сейчас, когда я активно работаю над своей кандидатской диссертацией, посвященной греческому авангарду 1970-х. Я очень надеюсь, что смогу вернуться к этому проекту в ближайшем будущем.








