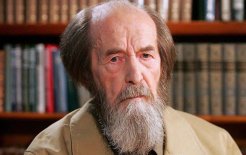Текст: Михаил Визель
4. Проповедь о холере и московская метафизика
День 9 сентября, когда почтальон привез приехавшему улаживать дела барину Пушкину долгожданную весточку от невесты и увез от него три письма, оказался примечателен для сочинителя Пушкина еще одним важнейшим (как вскоре выяснилось) событием: именно этим днем помечено в рукописи окончание «Гробовщика» - первой и самой мрачной из будущих «Повестей Белкина», написанных как раз в Болдине. Более того: на конечном листе рукописи стоит пометка о полученном от Натальи Гончаровой письме. И это во многом определило то, какой стала повесть в окончательном виде. То есть, пожалуй, - какими стали все «Повести Белкина», заложившие, да простят нас читатели за слог школьного учебника, генеральную линию реалистической русской прозы.
Между тем ничего не предвещало. Потому что начинался «Гробовщик» самым романтическим, нереалистическим образом. Связь готического «Гробовщика» с написанным в те же дни, в самом мрачном расположении духа, стихотворением «Бесы», очевидна:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Или, добавил Пушкин уже в прозе, к гробовщику на новоселье явились...
Связь «Гробовщика» с семейными обстоятельствами самого Пушкина менее заметна - особенно не москвичу - но не менее красноречива уже в первой фразе повести:
«Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом.»
На Старой Басманной, как мы помним, только что умер дядюшка Василий - да и сам Александр родился там же, в Лефортове. Так что Пушкин небезосновательно мог считать Басманную часть своей малой родиной. В черновиках гробовщик Адриян Прохоров имеет и отчество: «Симеонович». То есть АСП. Как и сам Пушкин... А первый свой гроб Адриян продал на Басманной в 1799 году - когда родился Пушкин.

На Никитской же стояла городская усадьба Гончаровых (остаток их владений стоит до сих пор, это дом 2А по Трехпрудному переулку - и на нем действительно висит мемориальная доска в честь Натальи Гончаровой, только другой, художницы; но названной в честь нашей героини - своей двоюродной бабки). Так что переезд с Басманной на Никитскую для Пушкина символически обозначал переезд из родительского дом в семейный.

Немудрено, что, уехав в Болдино в состоянии неопределенности, с, как ему казалось, расстроившейся свадьбой, Пушкин «нагнал чертей»: ох, АСП, боком тебе выйдет этот переезд!
«Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось».
Но Наташа прислала с Никитской «премиленькое письмо» - и страхи рассеялись. Загробная жуть оказалась просто тяжелым сном:
— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.
— Вестимо так, — отвечала работница.
— Ну, коли так, давай скорее чаю да позови дочерей.

Последняя короткая фраза - «да позови дочерей» - оказалась пророческой: до конца дней Пушкину пришлось иметь дело не только с Наташей, но со всеми тремя сестрами Гончаровыми - дочерьми с Никитской. Об этом сам Пушкин пока еще не знал. И первое его после длительного молчания письмо другу Плетневу наполнено той же грубоватой, бесхитростной радостью освобождения от тягостного морока:
П. А. ПЛЕТНЕВУ 29 сентября 1830 г. Из Болдина в Петербург
Болдино, 29 сентября.
Сейчас получил письмо твое и сейчас же отвечаю. Как же не стыдно было тебе понять хандру мою, как ты ее понял? хорош и Дельвиг, хорош и Жуковский. Вероятно, я выразился дурно; но это вас не оправдывает. Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мною глупые ссоры; и это бесило меня. Хандра схватила, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел иль думал отказаться? но я видел уж отказ и утешался чем ни попало. Все, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки, да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна, etc. Баратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим. Доселе он я — а тут он будет мы. Шутка! Оттого-то я тещу и торопил; а она, как баба, у которой долог лишь волос, меня не понимала да хлопотала о приданом, черт его побери. Теперь понимаешь ли ты меня? понимаешь, ну, слава богу! Здравствуй, душа моя, каково поживаешь, а я, оконча дела мои, еду в Москву сквозь целую цепь карантинов. Месяц буду в дороге по крайней мере. Месяц я здесь прожил, не видя ни души, не читая журналов, так что не знаю, что делает Филипп и здоров ли Полиньяк; я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка. Прощай, душа моя; кланяйся от меня жене и дочери.
Плетнев явно получил мрачное письмо из Москвы от 31 августа и не успел получить ликующее письмо от 9 сентября - но любо-дорого посмотреть, как Пушкин, словно опытный блогер, восстанавливающий тред, одной фразой подхватывает нить и сшивает разошедшиеся края переписки. И, только объяснившись и «доругавшись», в середине письма «спохватывается»: «Здравствуй, душа моя, каково поживаешь?»
А чего стоит супрематическая фраза:
«Доселе он я — а тут он будет мы»,
достойная футуристов и обэриутов?
Между тем под нарочито «заумной» авангардной фразой Пушкина скрывается вполне серьезное волнение:
«Я женюсь, то есть я жертвую независимостию, моею беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?»
Фрагмент, из которого взята эта фраза, написан в мае 1830 года, сразу после помолвки. И снабжен примечанием «с французского». Да только уж какой тут французский. Пушкин «отстраняется», объективизирует собственные переживания, потому что ему странно, что теперь «я - он», то есть жених, без пяти минут муж. «Молодые люди начинают со мной чиниться: уважают во мне уже неприятеля». Есть от чего загрустить… Мало ли сам Пушкин одолел сих уважаемых неприятелей, то есть наставил рогов мужьям?! И пассаж из «Цыган», на который Пушкин только намекает, потому что адресат знает его не хуже самого автора, - тоже спокойствия не добавляет:
Утешься, друг: она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься.
Легко было предлагать утешиться цыгану, кочующему по вневременнóй романтической Бессарабии! Интеллектуалу-дворянину XIX века «утешиться» было бы гораздо сложнее. Поэтому ему нужно скорее в Москву, к своей юной невесте, пока она действительно сердцем не «перешла в другое место».
В Москву! В Москву!

Но рвясь в Москву, Пушкин все-таки напоминает про свое известное Плетневу пари с Вяземским: будет ли казнен свергнутый в ходе французской Июльской революции 1830 года и схваченный при попытке бегства реакционный министр герцог Жюль де Полиньяк (Пушкин ставил на то, что будет, но, к счастью, проиграл). И, в качестве cup de grace, или, как сказали бы в эпоху рэп-батлов, панчалайном хвастается перед другом дебютом в непривычном амплуа проповедника.
Он не стал (или не решился) доверять это бумаге, надеясь вскорости поведать об этом новом «скилле» Плетневу лично, но до нас дошел пересказ воспоминания об этом примечательном событии, которое приводит Вересаев в книге «Пушкин в жизни»:
"Что же вы делали в деревне, А. С-ч? - спрашивала Бутурлина. - Скучали?" - "Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди". - "Проповеди?" - "Да, в церкви, с амвона, по случаю холеры. Увещевал их. - И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!"