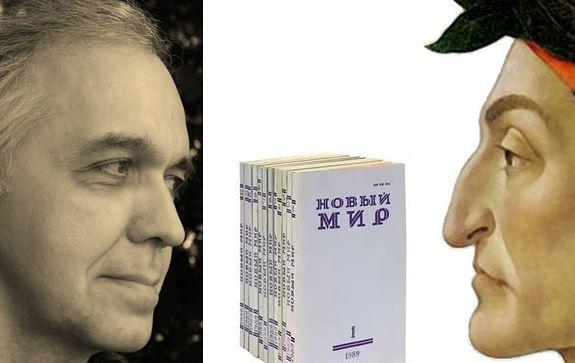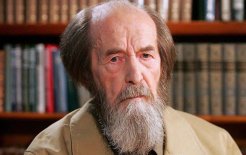Коллаж ГодЛитературы.РФ
Текст: Михаил Визель
Во второй половине мая отмечается 755 лет со дня рождения Данте. И одним из подтверждений того, что поэт XIII—XIV веков отнюдь не отошел в историю литературы, стала публикация в февральском номере журнала «Новый мир» огромной, на 12 песен, поэмы живущего и преподающего литературу в Питсбурге (Пенсильвания, США) поэта, прозаика, кинорежиссера Игоря Вишневецкого, написанной строгими терцинами - вполне дантовскими по форме и по смыслу.
После того как «Новый мир» открыл свободный доступ к поэме, мы попросили нашего постоянного поэтического обозревателя прочитать ее еще раз повнимательнее и высказать свое мнение. И поскольку оно оказалось отнюдь не восторженным, представили самому автору возможность разрешить сомнения нашего рецензента. Которой он воспользовался. Его ответ оказался весьма пространным - но и предмет обсуждения не мал. И не малозначим.
После начала пандемии многие обратили внимание на переоценку ценностей, резко сдвинувшихся в сторону консерватизма: собственная квартира, пусть и далеко, надежнее съемных апартаментов в центре, собственная машина безопаснее каршеринга, дача все-таки эффективнее сайта Booking.com. А главное - завораживающе полная открытость границ, казавшаяся главным достижением семидесяти лет без войны, оказалась чревата эпидемиями. Неужели весь мир, пресытившись чрезмерной открытостью и «ризомностью», откатывается к твердым формам не только в политике и экономике, но и даже в поэзии?
Текст: Александр Соловьев
Во втором номере журнала «Новый мир» за этот год была опубликована поэма Игоря Вишневецкого «Видение», написанная терцинами, как и «Божественная комедия» Данте. Примечательно, что посвящена поэма Сергею Завьялову (и открывается сонетом-посланием - припоминается, к примеру, «Евгений Онегин») - филологу-классику и поэту, сочетающему в текстах ультраархаизм и ультрановаторство, вспомнить хотя бы его ранние стихи, написанные в дореволюционной орфографии - и поэму о блокаде «Рождественский пост». Сам Вишневецкий на протяжении творческой биографии тоже колебался от неоархаических текстов к поэтике, отталкивающейся от законов классического стихосложения. Стоит вспомнить все это, и становится ясно - не стоит воспринимать «Видение» ни как радикальный манифест художественного консерватизма, ни как концептуалистскую игру с отжившей формой. Текст перед нами вовсе не так прост.
Хотя поэма и нарративная, все же пересказывать ее сюжет целиком я не берусь - дело это в данном случае бессмысленное и неблагодарное, так как и просодия, и формальный сюжет, и образность, в этот сюжет не укладывающаяся - все составляет здесь художественное целое, разделять которое невозможно. Пусть поэма по нынешним меркам и огромна (12 песен, около 1800 строк), ее стоит прочитать целиком. Ограничусь одним предложением - поэт в сопровождении девушки Леонарды и тени покойного Василия Кондратьева (тоже, кстати, находившегося на сложном пересечении новаторства и традиции - взять хоть стихи (см. сборник «Ценитель пустыни»), хоть прозу (см. недавно вышедший сборник «Показания поэтов»), - отправляется из Венеции в путешествие по местам, где сходятся прошлое, будущее и небывшее, чтобы с помощью самого Данте перекинуть силой поэзии, сочетающей мысль и веру, мост через потоки адской реки в город-отражение рая - и перевести через него адские толпы.
Начинается поэма с картины Венеции - и сразу же задает ряд мотивов, характерных для венецианского ряда русской поэзии вообще (как раз недавно Александр Соболев с Романом Тименчиком собрали огромную антологию таких текстов). Дает о себе знать и Бродский - такое узнаваемое сочетание разговорности с поэтизмами, включение диалогов в сложные метрические конструкции с изобилием анжамбеманов ни с чем не перепутаешь. Ловлю себя на том, что выбрать иллюстративный отрывок почти невозможно - речь перетекает из одной терцины в другую с почти абсолютной свободой, и синтаксически завершенных отрывков, не разрывая строк, найти невозможно. Это напоминает и Бродского, и мастерство английского дошекспировского сонета - мастерство включения как бы живой речи в жесткую поэтическую форму (вот, например, знаменитое «I never drank of Aganippe well» Филипа Сидни). Таким образом будет построена почти вся поэма - из сочетания диалогов и монологов, укладывающихся в форму классической терцины. Кое-где, пожалуй, автор даже перегибает палку с игрой в разговорность - в момент посещения покойных родителей отец говорит:
«А я ведь был когда-то инженером,и неплохим, - продолжил речь отец, -
и поезда России по просторам
страны - под стук волнуемых сердец -
все бегали с колодками моими.
ты это знал?» - «Конечно». - «Но венец
того, что создал - ты и брат твой». - «Нами
не ограничивается…» - «Как знать.
Конечно, потрудились с мамой. Маме
респект главнейший в деле, так сказать…»
Пожалуй, так это выглядит уже несколько абсурдно.
Во время путешествия герои посещают… Впрочем, нет. Не они посещают, а их посещают видения блокадного Ленинграда, и неких небывших миров, и райского города, принимающего облик воспоминаний детства, - и все это сопровождается долгими разговорами персонажей друг с другом, рассуждениями и комментариями к увиденному.
Пожалуй, лучше всего можно было бы охарактеризовать «Видение» как помесь «Божественной комедии» с «Форель разбивает лёд».
Кузминская кажимость реальности, увиденной как будто сквозь толщу воды, где одна картина сменяет другую, вкладывается в дантовскую рассудительность и стремление объять мироздание целиком. Сам автор не стесняется своего разговора с великими - но прямо вводит Данте в повествование, и «progetto dantesco» - дантовский проект - который они обсуждают, который и есть средство преодоления ада - это сама поэма, которую мы читаем. Здесь впору вспомнить и о символистах с идеей преображения мира через текст, но, пожалуй, на этом сбор анамнеза этого текста можно прервать - уже перечисленное показывает, что он включает в себя чуть ли не всю мировую литературу, от средневековых мистерий до ленинградского андеграунда прошлого века. А кроме того, и живопись, причем именно венецианской школы - персонажи все время замечают, что небо над ними как будто с картины Тинторетто, да и заканчивается видение как бы ожившими картинами - «Сбором манны» и «Тайной вечерей», расположенных относительно поэта так, как если бы он смотрел на алтарь Сан-Джорджо-Маджоре, где эти полотна и хранятся. И музыка (и авторский опыт исследования музыки) дает о себе знать - адская река наполнена обломками прежних мостов - неудачных, и все они издают страшный вой и скрежет - соположение музыки и поэзии здесь очевидно.

Но, несмотря на все эти достоинства, при чтении «Видения» то и дело ловишь себя на мысли, что что-то не так. Проблема, кажется, собственно в том, что уже почти в самом начале поэт говорит почти буквально о том, что он - «последний поэт» (вспомним Баратынского), что поэзия в мире умерла. На это Кондратьев с горечью отвечает ему, что он вовремя покинул наш мир. Ровно потому, что он - последний, поэта и призывают на строительство чудного моста, потому Дант и ведет с ним разговоры. Разумеется, поэма не сводится к мысли о том, что больше никто не пишет хороших стихов, иначе читать ее было бы просто неинтересно - но все же это остается одним из главных ее месседжей, и сама она становится, в некотором роде, попыткой восстановить мировую справедливость, метафизически спасти мир с помощью художественного текста.
Зададим себе вопрос - удалось ли автору соответствовать поставленной самому себе, прямо скажем, мегаломанской цели? Мой ответ - да. Поэма, хотя написана и, скажем так, стилистически небезупречно, заставляет об этих единичных небезупречностях при чтении забыть, и поражает, и затягивает при чтении своим величием, причем не просто ахматовским величием замысла, но воплощенной невероятной картиной, и явление Данта воспринимается не как пошлость и дурной анекдот, каким оно было бы, если бы автор не удержал свою планку - но как закономерность.
Теперь зададим себе другой вопрос - изменит ли эта поэма нашу, не художественную реальность?Мой ответ - нет.
Литература не существует без своего социального воплощения, она - не музыка небес, но отражение наших социальных представлений. Современное состояние русской поэзии, которое настолько не устраивает Игоря Вишневецкого, что он даже встроил его в картину вселенского масштаба как знак полного разложения - это, при всех сложностях и проблемах литературного сообщества, осмысление опыта XX века, ответ на вызовы современной философии и социальной науки, на опыт проживания в современном социуме. «Видение» же, при всем величии, которое она демонстрирует читателю, отвечает только на раздражение от современности, откатить которую назад не выйдет. Поэма построена на изысканных культурных ассоциациях, но при этом элитистская до предела. Она величественна - но за величием этим проглядывает ресентимент. Этот текст оказывается несоразмерен тому, какое место занял поэт в современном обществе - место производителя художественных медиумов одним из многих доступных способов. Если Данте писал с уверенностью, что посредством его с читателем «Божественной комедии» говорит сам Бог - то за «Видением» мы видим пустоту. Боюсь, что лишь художественных достоинств не хватит, чтобы эту пустоту заполнить, и поэма останется в истории русской литературы как свидетельство о человеке, который попытался повернуть время вспять и потерпел поражение - в экзистенциальном, а значит, и в художественном смысле.
Ответ Игоря Вишневецкого
Читать аргументированные, пусть и не вполне точно, отклики на то, что ты сделал, всегда чрезвычайно интересно. Начну с неточностей аргументации.
Во-первых, Александр Соловьёв слишком верит тому, что обо мне написано, и недостаточно — самому тексту поэмы, о которой он говорит, что «и просодия, и формальный сюжет, и образность, в этот сюжет не укладывающаяся — всё составляет здесь художественное целое, разделять которое невозможно», а «выбрать иллюстративный отрывок почти невозможно — речь перетекает из одной терцины в другую с почти абсолютной свободой». Получается, что если нельзя говорить о тексте, то следует говорить о контексте восприятия. В качестве такого я узнаю цитату из Википедии про мой «неоархаизм» (да, так действительно обо мне думали в 1990-е, но сам-то я знал, что корни мои в другом), не обозначенную отсылку к рецензии Германа Власова на «Виде́ние» из сдвоенного 3/4-го номера «Волги» за 2020 год, в которой устанавливается связь с «Форелью разбивает лёд» Кузмина (ее на сознательном уровне не было) и с Данте (а вот это было вполне сознательно и подтверждается, как правильно указывает Александр Соловьёв, текстом), а также, опять без каких-либо указаний, Александр Соловьёв привлекает в качестве контекста и моё эссе о «Последнем поэте» Баратынского (из 4-го «Нового мира» за 2020 год). Но ведь то, что обо мне пишут, — лишь мнения; да и сам я, анализируя другого поэта, не обязательно говорю о себе (для последнего у меня есть стихи). Могу заверить, что не думаю, что русская поэзия на мне заканчивается, что я — «последний поэт»: впереди как раз много интересного.
Во-вторых, сильно преувеличивается роль Бродского как для моего литературного поколения (которое в значительном числе рассеяно по белу свету), так и для меня лично. Бродский был очень важен как точка отсчета для тех, кто шел до нас, и тех, кто пришел после нас. Нас же в целом интересовало другое. Нам не требовалось выстраивать себя вопреки фигуре Бродского, в невыгодном для себя сравнении, в качестве младших литературных братьев-сестер (его поколение годилось нам в отцы), или видеть его уже забронзовелым памятником (что произошло после 1996 года). Для большинства из нас Бродский был знакомым огромного числа наших знакомых (и я могу кое-что при случае на эту тему рассказать), но при всем невероятном уважении к нему как к поэту более вдохновляли другие образцы. Тут надо объяснить две вещи. Первое: начало моего пути как стихотворца пришлось на период, когда как в неофициальной, так и — после крушения СССР — в поэзии мейнстрима восторжествовали принципы, которые были очень верно определены как «постакмеизм». Были раздуты определенные аспекты акмеистического мирочувствия и отношения к слову: конкретность, вещность, установка на здесь и сейчас. Произошло, начатое Анненским и Ахматовой, радикальное сближение стиха и прозы (вот это последнее мне видится весьма плодотворным).
Однако для меня, чей основной интерес в начале 1980-х, в студенческие годы, сосредоточился на московских символистах (я еще застал детей некоторых из них — Димитрия Вячеславовича Иванова и Наталию Сергеевну Соловьёву, с последней очень дружил) и на предшественниках символистов, поэтах-любомудрах, это означало одно: имманентное взяло реванш над трансцендентным. Протест против «постакмеизма» двигал мной во всем, что я тогда писал. Второе: Бродский не только во многом наследовал акмеизму, но и радикально переосмыслил наследие англоязычной поэзии 1930—1940-х, в первую очередь группы, сформировавшейся вокруг У. Х. Одена, взяв у них скепсис, иронию и культ изощренной формы, но отказавшись при этом от их «морального видения», диктовавшегося резким неприятием современного общества. А без этого весь их «проект» рассыпается. Подмена Бродским социальности чистой метафизикой — мол, человеку плохо всегда, при любых обстоятельствах — ведет к абсолютному жизненному пораженчеству. Плохо (или хорошо) бывает очень по-разному. Жизнь небессмысленна, и в ней добиться можно многого. Ее можно переустроить так, чтобы культурное богатство радовало, распределение созданных трудом благ было справедливо, а перспективы надежными на многие десятилетия вперед — не только для тебя, но и, как минимум, для твоих внуков, и они вспоминали бы тебя добрым словом как достойного предка и гражданина. Что же до анжамбеманов, стилистической широты, присутствия разговорного синтаксиса в стихах — у меня это было последние лет тридцать, я все-таки очень давно работаю в литературе.
В-третьих, Александр Соловьёв упускает из виду именно то, что в поэме написано — и тут, мне кажется, огромная концептуальная вина тех, кто десятилетиями твердил о недоверии к тексту, о постреальности и о прочем, что вполне комфортно вписывалось в сложившийся в 1990-е мировой консенсус в качестве интеллектуальной капитуляции, а выдавалось при этом за новое слово «критической» и даже «левой» мысли (большего издевательства невозможно было себе и представить). Так получилось, что многих идеологов всего этого — Лиотара, Бодрияра, Деррида и так далее — я видел живьем, а с кем-то и общался в качестве младшего коллеги. Помню, например, как во второй половине 1990-х в Атланте университетская администрация заставила меня прервать семинар по Достоевскому и привести моих американских студентов на лекцию Бодрияра, так как аудитории для заезжей звезды не набиралось.
Весьма корпулентный, но при этом невысокого роста лектор начал, заводясь, бегая туда-сюда по сцене и цитируя Маркса: «Подобно тому как пролетариат должен освободить себя сам от собственных цепей, наше сознание должно освободиться от телесности!» — «Позвольте, профессор, — возразили ему пригнанные неволей студенты, — если мы возьмём шило и проткнём собственную телесность, ей будет больно!» — «Это нефилософский аргумент!» Философский, ещё какой философский.
Реальность реальна, хотя за ней и может стоять нечто большее. Так вот реальность моей поэмы такова, что в ней очень много разговоров о будущем, куда устремлены и герои. Тут тексту следует верить, хотя он и «порождение воображения». Восстановление прошлого в поэме — это просто ἀποκατάστασις πάντων (восстановление или переучреждение всего), страшный суд, что, по-моему, ясно всем, кто близко знаком с восточнохристианской традицией и христианской традицией вообще. То, что будущее не может быть названо до конца, а должно создаваться сейчас, при нашем активном участии, это тоже более или менее очевидно. Известное, свершившееся создать нельзя, оно уже существует. У поэмы открытый финал. В связи с этим меня изумило то, что Александр Соловьёв, признавая литературные достоинства поэмы как осуществленного замысла и ее резко критический настрой по отношению к настоящему, не увидел как в факте ее написания, так и в факте публикации в «Новом мире» радикального социального жеста. Разведение литературы и морального (а значит, и общественного) видения — тоже наследие интеллектуальной контрреволюции, достигшей пика в 1990-е, и Бродский volens nolens к тому руку приложил, хотя бы широко цитировавшейся «прихватизаторами» строчкой 1972 года о том, что «ворюга мне милей, чем кровопийца» (хотя как человек умный сохранял дистанцию между собой и тем, что творилось в РФ), а идти-то моральное, эстетическое и общественное обязаны вместе (и в выборе между ворюгой и кровопийцей — оба хуже). Более того, исходя не из текста поэмы, а из предполагаемой у меня реставраторской интенции, хотя ее в поэме не больше, чем в ἀποκατάστασις πάντων, результатом которого должны стать «новое небо» и «новая земля» (Откр. 21:1), Александр Соловьёв заключает, что «поэма останется в истории русской литературы как свидетельство о человеке, который попытался повернуть время вспять и потерпел поражение — в экзистенциальном, а значит, и в художественном смысле». То, в чем рецензенту видится «поражение», я считаю за решительную победу: поэма написана и опубликована, огромное дело по обсуждению, в какое же будущее русской литературе — да и всем нам — идти, начато.
Отдельно от этих трех позиций хочу высказаться по поводу приписываемого мне рецензентом «элитизма». Знающие меня по реальной жизни — а она не бодрияровский симулякр — в курсе, что нет ничего дальше меня конкретного, чем элитизм. Сложное и зиждущееся на хорошем знании того, что сделали до тебя, не значит элитарное.
Можно писать очень сложную музыку как Стравинский и быть самым острым выразителем народного, национального духа, уметь, как язвил Прокофьев, завязывать галстук и не наступать на ноги, и быть весьма передовым художником, знать прекрасно античность, как те же поэты оденовской группы, в первую очередь Макнис, Дэй-Льюис и сам Оден, и — как Макнис, в написанном сапфической строфой «Christmas Shopping» (надо бы перевести как «За подарками к Рождеству», но и «Шопинг на Кристмас» тоже ничего, сгодится; 1938) — камня на камне не оставлять от консьюмеристского общества, а потом отправляться санитаром к республиканцам в Испанию. Кстати, полезно сравнить «За подарками к Рождеству» Макниса с русским на него откликом — «24 декабря 1971 года» («В Рождество все немного волхвы...») Бродского (январь 1972): умный протест превращается в невольную апологию брежневского застоя (я в нем жил и прекрасно Новый 1972 год помню) — ничего, хорошо, мол, сойдет и так: «Пустота. Но при мысли о ней / видишь вдруг как бы свет ниоткуда». У Макниса пустота, умственный вакуум общества и есть вакуум. Дальше нужно действовать и общество менять, начиная с самих себя.
Теперь о главном.
Я в курсе, что написанием «Виде́ния» значительная часть современной русской поэзии обнуляется, но прямой вины моей в этом нет. Либо пишите лучше, либо вообще ничего не пишите.
У литературы известных мне обществ — в контексте большой истории — нет сугубо групповых или чисто стилистических задач, только общенациональные и мировые, а групповое и стилистическое входит в них подмножествами (Данте, кстати, скорее всего говорил с Италией и с собственной совестью). «Народ, не имеющий литературы, всегда чуждается единства и в языке своем», — утверждал в 1838-м с кафедры Московского университета романтик Шевырёв. Мы, современные русские писатели, занятые созданием лучшей, чем та, что имеется в современности, литературы для нашей родины, при этом литературы умной и сложной, понимаем, что это действие общественного звучания: не обязательно в преходящем настоящем, куда больше — в неизбежно наступающем будущем, которое приведет к созданию нового, приемлемого для всех нас языка. Речь также идет о переустановлении самосознания в важнейшей — в рамках человеческой истории — культурной традиции. Кто хочет — может всегда присоединиться к работе, кто не хочет и желает сосредоточиться на частном — что ж, и у этого выбора есть свои последствия (например, выпадение из большой истории, которая совсем не фикция).