
Текст: Игорь Шумейко
Коллаж: ГодЛитературы.РФ (фото: ru.wikipedia.org)
Популярнейший, «попсовейший» попрек Бродскому, справляющему 24 мая юбилей, хорошо известен. Обещал ведь:
«Ни страны, ни погоста / Не хочу выбирать. / На Васильевский остров / Я приду умирать».
А сам что? А сам в Петербург не приехал: ни когда звал мэр Собчак, ни умирать. И в итоге похоронен на острове – но не вышеуказанном, а на Сан-Микеле близ Венеции. Чаще всего это произносится с интонацией героя шукшинского рассказа «Срезал»: мы-де в курсе дела, за новостями следим, «главное стихотворение Бродского» тоже знаем!
Так что известный тест на мгновенные ответы: «Поэт? – Пушкин! – Фрукт? – Яблоко!», можно продолжить: «Стих Бродского? – На Васильевский остров я приду умирать!»
Тут и моя личная скорбь: не раз опрашивал студентов, коим преподавал журналистику, и убеждался: стих «про Васильевский остров» – действительно самый известный. Горестное недоразумение, но и общая проблема: начиная с какого возраста Гения собирать его творения и включать их в собрания?
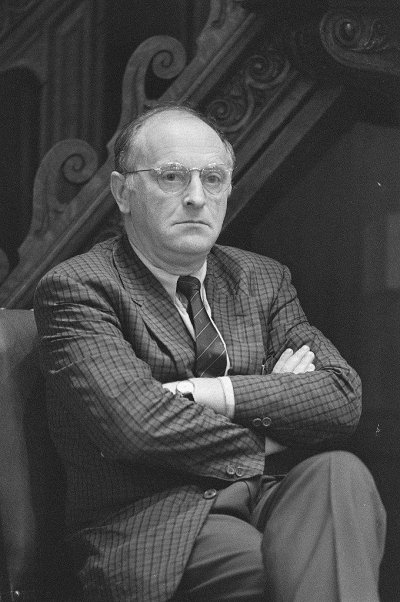
А ведь Бродский тот стих «вымарал» дважды. И с точки зрения роста поэтического мастерства: знаменитый совет Рейна (при вымарывании глаголов, потом прилагательных – поэтический текст все равно должен уцелеть). Существительное как часть речи (а не как название авторской книги И. Бродского) – основа поэтического текста. Следствие «Теоремы Рейна»: глагольные рифмы – самые худшие. Бродский вспоминал ту «Теорему», главный ключ поэтического мастерства, в десятках интервью. А «20 сонетов к Марии Стюарт» заканчивал, говоря о своей любви «к окончаниям падежным» (т.е. к существительным). Детской рифмы «выбирать/умирать» он, наверно, стыдился, да и мы признаем: она ничуть не лучше, например, той, зафиксированной на 200 млн открытках: «Поздравляем/желаем».
Тезис «О праве Гения на детство и взросление» я бы применил и ближайшему соседу Бродского по дням рождения: лицейские эпиграммы под одной корочкой с «Евгением Онегиным»?! Только Иосифу Александровичу много хуже: злая ирония вынесла его «Васильевский остров» на самую стремнину общественного сознания.
И уж совсем недалеко от «скорби» до «оскорбления», когда банальщиной детского стишка заслоняют всю громадную работу души, «скорбь и разум»: ведь он вымарал не только глагольные рифмы, но и тщательно перечеркнул весь смысл той наивной «локализации» своей смерти, в своем «настоящем»:
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Пожатие плеч, лучший ответ, опровержение… Тут право Гения на взросление, развитие, исключающее сведение этих текстов, кроме как в исторической справке…
Кто-то из приятелей, учившихся в Литинституте, вспоминал: на первом же семинаре их поучали: «главное – не пишите о могилах!» Я, не имевший счастия учебы в тех стенах, понял это так: уроков мастерства будет еще много, 5 лет, но самый общий, первый и поверхностный штамп надо из вас выбить сразу!
Но ведь… (я продолжаю додумывать): то самое клише сознания, что «без малого в осьмнадцать лет» подзуживает писать «про погибший жизни цвет» (Пушкин своей просветленной иронией с этим расквитался!) – и оно же,
клише, некая общебиологическая особенность, наверняка и Читателя подзуживало: в Океане Поэзии Бродского выбрать, запомнить тот самый Васильевский остров!
Может, то была попытка юного Иосифа выразить восторг пред красивейшим местом? Я и сам каждый приезд в Питер, выхожу к Неве, благо редакция одноименного журнала рядом, «настраиваю праздный взгляд» по осям Ростральных колонн (но с захватом нескольких румбов вправо и влево от каждой), с «колоннадой Биржи» посредине. И через сколько-то времени ухожу, заново убежденный, что: а) стрелка Васильевского острова, на моей планете, – дает самый красивый из возможных углов зрения; б) мое счастье, что в юности хоть немного, но я пожил здесь. «В былые дни и я пережидал холодный дождь…»
Черезнедельное соседство двух дней рождения (еще усиливающееся тем неопровержимым фактом, что сам-то Пушкин свой день рождения праздновал 26 мая), – напомнило, как мучимым мною студентам я формулировал: «Пушкин – наше всё. Бродский – наше всё остальное». Сейчас, когда книга передо мной открыта на соответствующей странице, от самого стихотворения так же трудно оторваться, как от Стрелки Васильевского. Густая фактура текста, взгляд и настроение вдруг явственно напомнило …Гоголя. У которого Русь тоже – «из чудного далека», любимой обоими Италии:
Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки "А", там поезд на равнине
стремится в точку "Б". Которой нет в помине…
…Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города...
…Там, лежучи плашмя на рядовой холстине,
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.
Особенно – во сне. И, на манер пустыни…
…Не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива, не опрокинется назад голова, посмотреть на громоздящиеся в вышине каменные глыбы…
…Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.
Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик…
…И опять по обеим сторонам пошли писать версты, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, пешеход в потертых лаптях плетущийся за 800 верст…
…Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.
Там при словах "я за" течет со щек известка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой дает раза соседним странам войско…
…Городишки с деревянными лавчонками, мучными бочками, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, солдат верхом на лошади, везущий ящик с свинцовым горохом и подписью «такой-то артиллерийской батареи…
…Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Других примет там нет – загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет – цвет времени и бревен…
…Не блеснут сквозь наброшенные одна на другую арки, ничто не обольстит, не очарует взора…
…Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых...
…Эх тройка, птица-тройка! Не хитрый, кажись дорожный снаряд, не железным схвачен винтом. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? – В чем еще основание для «странных сближений»? Гоголь лучше многих понимал Пушкина, железное определение «Пушкин – это русский человек лет через двести» звучало в дни празднования того двухсотлетия чаще всего прочего.
Но это усаживание Александра Сергеевича пилотом в «машину времени» (помню школьную шутку, двоечник гадает: «АС Пушкин – это о летчике?»), похоже, вовсе не сулило полета за безоблачным счастьем, наподобие наших полетов в «…при коммунизме». Заглядывание в будущее Гоголя суммировано в другом его известном восклицании: «Страшно, соотечественники, страшно!» А сам пилот, ас Пушкин после прочтения «Мертвых душ» воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!»
Похоже, не за Счастьем, а за Судьбою был назначен 200-летний «чкаловский» перелет. Отчего и так схожи пейзажи за бортом птицы-тройки.
Строго хронологически, сухо арифметически, Бродский «не долетел». А доживи до лет толстовских, – возможно, читал бы он в эти дни, кроме поздравлений, и многозначительно намекающие цитаты из Гоголя.








