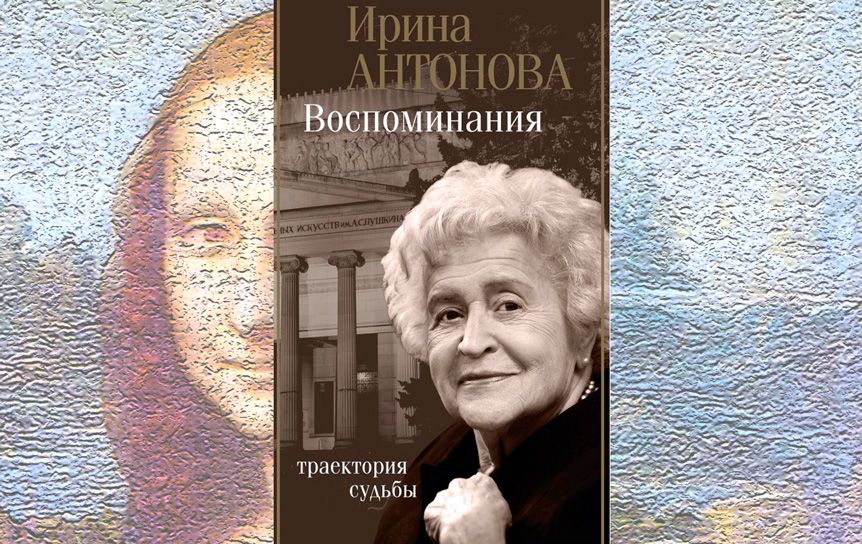Текст: Андрей Васянин
Воспоминания Ирины Антоновой вышли в АСТ к 99-летию президента, а до этого многолетнего директора ГМИИ им. Пушкина. Видимо, Ирина Александровна сочла, по своему обыкновению, что для ее музея можно сделать еще что-то, помимо того, что она уже сделала для ГМИИ за 52 года директорства и 8 лет президентства.
И сделала – начав знакомить публику со своей семьей, со своими жизненными ценностями, давая понять, откуда росли ее просвещенность и независимость, что учило ее стойкости и способности пробивать стены. Читая это не только узнаешь новое, но и получаешь удовольствие: о детстве, юности, военных годах и работе в Пушкинском Антонова писала (диктовала?) так же, как говорила – лаконично, эмоционально, личностно.
Новое дело осталось, увы, незаконченным: последняя глава касается столкновения искусства и политики, печальной истории закрытия в 48-м году Музея нового западного искусства. «Я приняла многое, что на моем веку в стране произошло, и при этом далеко не всегда согласна с тем, как дело движется сейчас, - говорит Ирина Александровна на последней, 130-й странице воспоминаний. - Но это всего лишь моя жизнь и моя оценка. Что из того, что я обо всем этом думаю?! Страна была до меня, страна будет и после меня».
Будет, но уже другой - без Антоновой.
И. Антонова «Воспоминания. Траектория судьбы»
М., АСТ, 2021
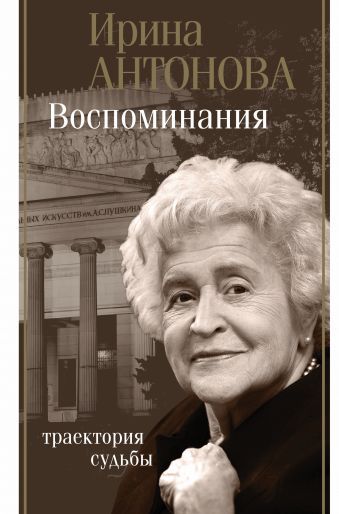
Мир книг
В моей жизни много значило чтение. Читать я начала рано, и отец стал покупать мне книги. Так однажды, на мое счастье, в нашем доме появился Диккенс. Это было в Германии, когда мне исполнилось девять или десять лет. Диккенс произвел на меня невероятное впечатление. Чтение его романов почти всегда заканчивалось слезами. И знаете, это замечательно. Я уверена, что умение плакать от красоты, от искусства, от переживания, которое дает искусство, — очень важное. Да, я бесконечно благодарна отцу, что он открыл для меня его удивительные миры. Я считаю, что все родители должны покупать детям Диккенса, потому что это писатель, который очень четко учит отличать черное от белого, добро от зла.
Мама не разрешала мне читать по ночам. Ноу меня была своя комната, поэтому я брала книгу, прятала ее под подушку, и, когда мама уходила, зажигала свет и продолжала читать. Помню, как читала «Лавку древностей» — тот фрагмент, где Нелли и ее дедушка уходят из города. Мне их было ужасно жалко, я понимала, что они гонимы. Помню, как плачу и перечитываю это для того, чтобы плакать, чтобы сочувствовать, сожалеть. Этим и силен Диккенс: он пробуждает чувство сопричастности, желание защитить того, кого жал-ко. Роман стал для меня очень важной книгой. В нем много скепсиса, иронии, я это тоже понимала, смеялась шуткам, но самое дорогое — именно чувство сострадания и сопричастности. Видимо, описание несправедливости, несчастливо складывающегося детства было мне очень близко. Я даже перечитывала на ночь иногда этукнигу, чтобы поплакать, посочувствовать, чтобы любить Нелли. Мне хотелось быть доброй.
А еще я очень рано начала читать Пушкина, не столько стихи или сказки, сколько прозу. Также рано прочла Лермонтова: он давался труднее, но очень нравился — драматичный, романтичный, загадочный. Что-то я читала в Германии, а что-то уже в Москве, когда мы вернулись. Хорошо помню впечатление, которое произвели на меня «Страдания юного Вертера» Гете, помню, как полюбила его поэзию. Я даже пыталась переводить его стихи на русский язык. Еще мне нравился Шиллер, «Коварство и любовь» — ужасно романтично!
Но особенная любовь — это пьесы. Я перечитала всего Островского из школьной библиотеки (дома у меня его книг не было), все пьесы до единой. Я и до сих пор люблю читать именно пьесы, хотя знаю, что многим они не нравятся: люди не воспринимают их как литературу вне игры, вне сцены. Больше того, я даже иногда, возвращаясь из театра, перечитываю пьесу, которую только что посмотрела: что-то я не услышала, что-то они опустили. Пьеса — очень своеобразная художественная форма. Островского я считаю грандиозным мастером. У нас привыкли воспринимать его как приложение к театру — текст, предназначенный для игры на сцене, забывая, что драматургия самостоятельный род литературы. Он дает огромный материал для постижения жизни.
Я много раз перечитывала «Грозу», потому что меня просто потрясала эта история. Совсем недавно прочла в воспоминаниях Константина Коровина, какон однажды пришел к Островскому и застал его сидящим в халате за столом, на котором были разложены игральные карты. К каждой карте — валету, королю, тузу или королеве — была прикреплена бумажка с фамилиями артистов Малого театра. И Островский си-дел перед этой мозаикой, а рядом с ним лежали часы Коровин спросил, что это такое, и Островский ответил: «Я написал пьесу, но, наверное, слишком увлекся. Тянет на три-четыре часа. Публика столько не выдержит, надо сократить». И он берет карту, смотрит на часы и читает текст. Если получается слишком длинно, то сокращает его: кому-то даст побольше слов, кому-то поменьше.
Сначала он писал пьесу так, как получалось, а потом утрамбовывал текст, чтобы уложиться в хронометраж спектакля. Читал вслух и сверялся с часами: сколько времени это занимает. Какой интересный процесс —создание пьесы! Какая необычная система!
Или, к примеру, героини произведений нашей классической литературы.
Не боюсь признаться, что никогда не нравилась пушкинская Татьяна. Я понимала, что это честная, искренняя барышня, благородная натура, но мне казалось, что если она любит Онегина, то должна была остаться с ним. У меня было несколько экстремистское отношение к ее последнему поступку, к этой встрече, к ее проповеди, к ее отказу. Я считала, что она просто струсила. Тогда, по молодости, я еще не понимала, что для нее невозможно нарушить клятву верности, данную нелюбимому мужу. У Толстого мне не очень нравилась Наташа Ростова, не нравилась и Сонечка — своей подчиненностью, безропотностью, и уж, конечно, совсем не нравилась Элен с ее наглостью и глупостью. Такие женские персонажи меня не привлекали.
Зато мне очень нравилась Анна Каренина. Я даже выучила весь ее последний монолог, когда она бросается под поезд: «Туда!.. Туда, на самую середину!» Этот монолог я даже читала вслух сама для себя. Да, очень нравилась Анна Каренина, ее отношение к Сереже, взаимоотношения с людьми… Я прекрасно понимала, что в ней нравится Левину. Ведь он явно был ею увлечен. А вот Эмма Бовари мне никогда не нравилась, хотя я очень любила роман Флобера. Я жалела ее, но никакой симпатии к ней у меня не возникло. Очень нравился Гамлет, хотя я не понимала той игры, которую он вел. Но я все ему прощала, мне не терпелось скорее разоблачить всех, я не понимала, почему он медлит, никак не могла примириться с его смертью, хотя было ясно, что она неизбежна.
Да, и никакого идеологического давления я тогда не ощущала. Понятия запрещенной литературы для меня не существовало. Я даже не подозревала о том, что что-то нельзя читать. Я просто что-то любила, а что-то нет. Например, я никогда не читала дамскую литературу, ту же Лидию Чарскую, которая была страшно популярна. Я слышала ее имя, но мне это не было интересно, меня это не волновало. Дома было много книг, и никто не запрещал мне читать что бы то ни было.
Не было такого понятия. Оно появилось потом, послевойны, когда пригвоздили Ахматову. Но это было уже другое время.
Дома я перегружена книгами, их безумное количество. Оставить их некому. Нет в моей семье людей, которые будут ими пользоваться. Когда я болела, приезжали работники нашей библиотеки. Мы отобрали часть книг для музейной библиотеки. Остальное я стала раздавать. Сейчас пристроить книги очень трудно, особенно зарубежные. Время такое настало. Не очень-то они и нужны. Часть книг я передала в разные музеи, в Вологду взяли, еще кое-куда. Но не все, далеко не все. Очень была удивлена, что даже Библиотека иностранной литературы не заинтересовалась. А меж тем у меня много книг на иностранных языках и почти нет альбомов.
У нас большая квартира, четыре комнаты. И во всех стоят книжные шкафы. Вся квартира в книгах. Накопилось за жизнь. Даже папины книги еще остались. Книги для меня — это моя жизнь, целый мир.
******
…Москву уже вовсю бомбили. И я, как и все, часто дежурила на крыше. Как ни странно, страха у меня не было, никакого. И это была не бравада, просто отсутствие страха. Мы не спускались в убежища, говорили себе: «В нас не попадет!» Не знаю, наверное, это была просто юношеская беспечность и ощущение, присущее молодости, что ты никогда не умрешь.
Буквально через два дня после нашего приезда в Москву ИФЛИ закрыли. А во второй половине января 1942 года открылся университет. Я пришла туда — и встретила там весь наш курс, тех, кто остался в Москве.
Вскоре нас — студенток — отправили на курсы медсестёр, и сразу по их окончании мне предложили работать в госпитале на Красной Пресне. Я недавно туда съездила, хотела найти школу, где был этот госпиталь, чтобы взглянуть на нее еще раз.
Там было много ночной работы, в госпиталь раненых привозили прямо с фронта, молодых ребят, в основном летчиков, которых сбивали под Москвой.
Они катапультировались и лежали, ожидая, пока их подберут. Их наскоро перевязывали, грузили и доставляли в госпиталь. Иногда на это уходило много времени. И когда их привозили, раны обычно уже загнивали. Если раненых можно было отправить в тыл, то их отправляли дальше. Если откладывать было нельзя и надо было сразу делать операцию, делали немедленно. Мне приходилось принимать участие в операциях, среди них были и операции с ампутацией. Первый такой опыт был страшным ударом по психике.
Идет операция, и вдруг хирург мне говорит: «Что ты стоишь? Бери и неси!» Я думаю: «Что нести?..» Оказалось, что ногу, которую ампутировали, потому что уже началась гангрена. Я взяла эту ногу и отнесла куда требовалось. Это было мое первое потрясение. Эта одинокая нога… Мальчик — вот он, и его нога — совсем уже не его. Понимание, что у него уже никогда не будет этой ноги, перевернуло мое восприятие войны. Не смерть, а именно эта отрезанная нога, которой никогда уже не доведется ходить по земле.
Еще запомнилось, что после операции солдаты часто просили: «Сестра, отгони муху!» А никаких мухи не было. Это после операции у раненого зудит нога, а ему кажется, что пролетает муха. Делаешь вид, что отгоняешь.
Поговоришь с ними: «А у тебя девушка есть? А может, написать письмо?» — «Нет, сейчас не надо, потом…» Они быстро менялись, эти раненые. Как только становилось ясно, что все благополучно, их отправляли в тыл. Наш госпиталь был эдаким перевалочным пунктом. Здесь оставляли только тех, кого нельзя было не оставить. Придешь в госпиталь — а их уже нет, отправили ближайшим транспортом туда, где не бомбят. Это были короткие встречи: сначала видишь их на операции, потом — когда они приходят в себя, а потом приходишь — их уже нет, увезли.
Вскоре меня перевели в другой госпиталь, на Бауманской, где лежали в основном выздоравливающие. Тут был другой контингент, в основном младший офицерский состав. Кое-кто мне запомнился. Помню надменного офицера, которому мне надо было ставить клизму. Мы ведь были одновременно и медсестрами (диплом медсестры у меня есть до сих пор), и нянечками — нужно было делать все. Говорю этому надменному, что надо делать клизму, а он: «Зачем так низко наклоняешься? Не наклоняйся так!» Мне так неудобно, потому что я маленькая, руки короткие, мне надо наклоняться, но я выпрямляюсь.
В этом госпитале больные менялись не так часто. И уже складывались какие-то отношения. Мне тогда казалось, что они совсем взрослые мужчины, а ведь им всем было лет по тридцать, если не меньше. Помню, как в Москву приезжал Аркадий Райкин, и я сходила на спектакль — он выступал недалеко от госпиталя. Потом пришла в палату и говорю: «Я была на спектакле Райкина, хотите, расскажу?» Помню, как они смеялись.
Для меня тогда была очень напряженная жизнь. Надо было ехать в госпиталь, потом бежать в университет (я не могла отказаться от образования). В ночное дежурство спать не приходилось вовсе. Еле глаза протираешь — и идешь на занятия. И так день за днем.
Но случались и в нашей жизни праздники. Один из них прекрасно помню. Это незабываемый концерт1942 года в Колонном зале Дома союзов — премьерное исполнение Седьмой симфонии Шостаковича под управлением дирижера Большого театра Самуила Самосуда. Мы с приятельницей Ириной Даниловой сидели в партере, недалеко от сцены. Незадолго до окончания я увидела, что в зале появился человек в военной форме, и поняла, что в городе тревога. Но он дал оркестру доиграть. Потом раздались аплодисменты. И тогда он вышел и сказал: «Товарищи, в городе объявлена тревога, просим всех спуститься в метро». Метро было рядом, но я сказала Ирине: «Я же недалеко живу, на Покровском бульваре, давай туда!» И мы с Ириной побежали. Рядом с домом нас все-таки схватили и отвели в убежище. Вскоре тревога кончилась, и мы пришли домой.
А вот еще одна «картинка» из военного времени. Мы с мамой ехали куда-то из Москвы в общем вагоне поезда — я сейчас не могу вспомнить, что это была за поездка, но это не главное. Рядом с нами сидела беременная женщина на порядочном сроке, молодая и симпатичная. Мы только отъехали от Москвы, как вдруг раздалась «тревога» и нам объявили, что надо выйти из вагонов и залечь в перелеске. Все выскочили, а эта беременная женщина не смогла — спуск из вагона был крутой. Она очень испугалась. Я ей и говорю: «Вы успокойтесь, я останусь с вами, посидим здесь… Не может быть, чтобы попало прямо в нас». Помню, она положила голову мне на колени, и так мы с ней и сидели, пока продолжалась тревога — минут двадцать. И вот что интересно: никакого страха у меня в тот момент не было.
Мой муж потом говорил: «Идиотка ты порядочная! «Видимо, та женщина была такая же идиотка, не понимала всей опасности. Она быстро успокоилась, и мыс ней просто, как в мирное время при остановке поезда коротали время. Я гладила ее по голове и спрашивала, кого она ждет — мальчика или девочку. Потом все затихло, в громкоговоритель объявили, что всем следует вернуться в вагоны. Люди прибежали, вскарабкались на свои полки, и мы поехали дальше. Позже я иногда думала: хорошо бы найти эту девушку и узнать, кто у нее родился…
Евсей Иосифович Роттенберг
Своего будущего мужа — Евсея Иосифовича Роттенберга — я в первый раз увидела в 1940 году. Мы учились в одном вузе, он был отличник, сталинский стипендиат. Застенчивый, розовощекий, с кудрявыми волосами. Его привели к нам на первый курс и попросили рассказать о нашей будущей профессии. Он сел перед нами, смущаясь, и стал говорить о том, что, по его мнению, самое главное для нас, новоявленных первокурсников. И тут случился забавный диалог. Кто-то спросил его: «А что надо читать?» И он ответил: «Старайтесь ничего не читать». Все вытаращили глаза. Это как же так — не читать? А он в первый раз сказал то, что на самом деле нам надо было понять. «Самое главное — смотреть и стараться увидеть. Старайтесь как можно меньше читать, вы потом еще начитаетесь. Если есть репродукции — смотрите на них. Сумели дойти до музея — смотрите на картины в музее. Листайте книги, смотрите как можно больше, старайтесь увидеть. Главное дело — смотреть и запоминать, что вам нравится, что вы понимаете, что вам интересно». Эти его слова я запомнила и следовала им всю жизнь. Муж и сам до последнего дня жизни постоянно смотрел, что-то листал, читал. Он прекрасно знал и понимал искусство. Я всегда говорила: «Муж — это мой второй университет». Конечно, я окончила университет и получила в нем знания. Это бесспорно. Но понимание искусства дал мне мой муж, а не университет. Там, пожалуй, только Алпатов учил видеть, а остальные (при всем моем уважении к их эрудиции и таланту) давали только знания о предмете. Именно своим видением искусства был знаменит мой муж. Именно за это его просто обожали посетители нашего музея, несмотря на его застенчивость и некоторую неловкость. Помню, в музей было целое нашествие, как сейчас бы сказали, ВИПов, которые хотели посмотреть военные трофеи, хранившиеся в запасниках, — экспонаты Дрезденской галереи. Ведь они целых десять лет были в запаснике, их выставили только в 1955 году. Но приходили люди и говорили нашему директору: «Вы нам дайте Ротенберга, пусть он нам расскажет об этих сокровищах» Они были наслышаны о том, как он умеет рассказывать и показывать. Поэтому муж в свое время водил по музею и дочку Сталина, и маршала Рыбалко, и знаменитого Эйзенштейна. Кстати, дочь Сталина Светлана училась на нашем факультете. Я спрашивала мужа, как он с ней работал, и он ответил: «Нормально, она хорошо слушала. Задавала вопросы по отдельным темам». Вообще Светлана была без всякого гонора, спокойно слушала, никогда не подчеркивала своей исключительности. Она была не очень любезная, но это, видимо, характер такой, а не наглость. Может быть, она чувствовала сложное отношение к себе. Муж умел научить видеть кого угодно: хоть маршала, хоть милиционера, хоть кухарку, если по Ленину, — любого человека, не имеющего никакого представления об искусстве. Научил и меня. Хотя я хорошо знала театр и литературу, но в плане понимания изобразительного искусства именно он дал мне очень много. И вот что интересно. Евсей Иосифович мало что рассказывал про историю картины. Он старался заставить зрителей увидеть ее глазами и почувствовать сердцем. Помню, как он однажды показывал мне картину Вермеера, и обратил внимание не на персонажей, а на карту на заднем плане, которая много значила для понимания смысла картины, рассказывал, почему здесь карта и как это надо понимать, много говорил о приемах освещения, о цвете и о том, какую художественную информацию несет этот цвет. Обычно начинают с сюжета: сначала «что?», а потом уже «как?» и «почему?». А он быстро проходил «что?» и переходил к «как?», то есть к тому, от чего зависит впечатление.
Когда студент Евсей Ротенберг приходил к нам в ИФЛИ, я не сказала ему ни слова, но он мне очень понравился своей застенчивостью. Евсей уже тогда слыл одаренным человеком, но не кичился тем, что он знаменитость. Возможно, он тогда кого-то и приметил в нашей группе. У нас там были хорошенькие девушки. А «по-настоящему» я познакомилась с ним уже в музее, когда однажды пришла туда работать. Я даже точную дату могу назвать: 10 апреля 1945 года. Меня еще только в музей взяли, а он уже работал в нем. Позже, уже после моего прихода в музей, моего будущего мужа назначили ученым секретарем. Официально же я пришла на работу в Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в 1947 году, после окончания института и получения диплома. И застряла в нем на всю жизнь. Хотя я очень люблю перемены и ненавижу топтаться на одном месте. Поначалу мы мало общались, но в 1946 году познакомились ближе. Помню, я вынимала принесенные из дома бутерброды и садилась за стол, а он предлагал мне чай или кофе, мы перекидывались друг с другом словами… При ближайшем общении он мне понравился еще больше, и мы серьезно подружились. Как-то раз он сказал, что хочет познакомить меня с родителями. Я говорю: «Ну, давай познакомимся! А как?» И Евсей пригласил меня в гости. Жил он на Соколе — это далеко от музея, но мы все равно пошли туда пешком. Это была потрясающая прогулка. Мы прошли Тверскую и отправились на Сокол. Было довольно прохладно, я помню, что начала дрожать, но мы в итоге дошли, хоть и замерзли. Я познакомилась с его родителями, потом он проводил меня до метро, и я уехала. Я не волновалась в тот день. Помню, он всю дорогу читал мне Пастернака, которого хорошо знал и любил. Он вообще знал много стихов, у него была прекрасная память. И в старости удивлял тем, что мог назвать состав футбольной команды, которая в 1935 году одержала какую-то победу… Да, помимо искусства он еще много чем интересовался, в том числе и футболом, и вообще — спортом. Хотя спорт я, пожалуй, любила даже больше, чем он. Евсей был абсолютно неспортивный, неуклюжий даже, а я все-таки занималась на брусьях и хорошо плавала. Когда мы только поженились, он с удивлением спросил: «Как, ты не выписываешь газету “Советский спорт”? Выпишем!» Евсей был из очень бедной семьи. Я увидела это, когда пришла к ним в дом в первый раз. Мы и сами жили не бог весть как богато, квартира у нас была пустоватая, мебели мало, но у них не было совсем ничего. Мы поженились 23 ноября 1947 года, и он пришел к нам с одной рубашкой, одной подушкой и одним костюмом. Еще у него были пальто и кепка — и больше ничего. Муж быстро подружился с моей мамой, был с ней в очень хороших отношениях, да и с отцом тоже. Отец сразу понял, что Евсей — застенчивый и неподдельно скромный, но очень умный человек. Он был страшно рад, что нашел в лице зятя интересного собеседника, что им есть о чем поговорить. Его только насторожило, что мой муж никогда не был комсомольцем, да и в партии не состоял. Папа был политически ангажированный человек, но он все понимал и был с мужем очень корректен. В свое время именно отец разбил мой «юношеский идиотизм» — так он сам называл мою абсолютную веру в то, что мне говорят. Он многое понимал про аресты, которые происходили в нашем доме, где жили люди, приближенные к правящей элите, но никому не навязывал своих взглядов. Он мог только напомнить мне про мой «идиотизм» — улыбаясь, мягко, не споря. В этом плане он был пассивным человеком, не карабкался на трибуны, не отстаивал с пеной у рта собственную точку зрения. Он мог сказать в нужный момент то, что думает, тому, кому доверял, но никогда не настаивал. Я не очень люблю таких людей, я люблю более решительных. Но только теперь, прожив жизнь, я начинаю понимать, что решительность и яростный напор — это не всегда правильно. А тогда я этого точно не понимала. Я была полной противоположностью отцу — по темпераменту, по отношению к жизни. Но он меня никогда не пытался переделать, никогда не говорил: «Ты что, не понимаешь?» Правда, в какой-то момент, думаю, папа понял, что и я начала прозревать. Он видел, как я восприняла дело врачей. Для меня это был страшный удар. И тогда же закрыли Музей нового западного искусства в Москве. Его ликвидация стала для меня ударом. И когда меня однажды спросили: «Почему не вступаете в партию? Ведь у вас уже серьезный комсомольский стаж!» — я не побежала срочно подавать заявление о вступлении в ряды КПСС, а ответила, что пока не готова. И вступила я в партию, только когда умер Сталин. Тогда я еще считала, что Сталин во всем виноват, и раз его нет, то все «это» кончилось. Так тогда считали очень многие люди, в том числе гораздо более умные, чем я. Ситуация в стране изменилась. Начали раскручиваться антиеврейские настроения. Это было достаточно драматично для моего мужа. Он словно потерял доверие к стране, в которой жил. Тяжело переживал. Очень тяжело. Евсей в свое время был сталинским стипендиатом. Их было очень мало. Да еще в ИФЛИ. А ведь он даже комсомольцем не был. Не было в нем ничего общественного, активного. Сложный человек. Одиночка. И уж если его сделали сталинским стипендиатом, то только благодаря незаурядным способностям и интеллекту. К нему замечательно относились директор музея Меркуров, искусствовед Виппер. Но даже это его не уберегло. В 1949-м состоялась огромная выставка подарков Сталину. В двух музеях одновременно — в Музее революции и у нас, в Пушкинском. А вместе с выставкой к нам пожаловал весь коллектив Музея революции во главе с директором Анастасией Толстихиной. Она была совсем неплохая женщина. Хороший работник. Но, увы, ограниченная. Широкого взгляда на вещи, конечно, у нее не было. И вот у нас выставляют сталинские подарки и одновременно увольняют огромное количество людей. В том числе и моего Евсея. Хотя он тогда уже был ученым секретарем. Работал непосредственно с Виппером. И Виппер ничего не смог сделать. Впрочем, его тоже уволили. Его! Знающего, удивительно образованного! Да, так случилось. И мы довольно долго жили на мои 79 рублей. Непросто жили. Оставаться без работы для Евсея было ужасно. Я умоляла его поступить в аспирантуру. Но он сказал: «Смешно. Не буду я диссертацию писать. Ничего не хочу писать». Он долго не работал. Его никуда не брали. И только через три или четыре года ему помог Алпатов. Михаил Владимирович был очень уважаемым человеком в Академии художеств. Он пошел к Герасимову и сказал: «Есть такой талантливый и способный искусствовед, был сталинским стипендиатом. Сам понимаешь, что сейчас ему ничего не светит. Давай возьмем его в Академию художеств». И его взяли. Все понимали, что Сталину осталось недолго. И Евсей, который совершенно не склонен порхать с места на место, делать карьеру, работал в Академии художеств количество лет. Его имя можно найти в каждой выпущенной в Академии книге — он или автор, или главный редактор. А потом он ушел в Институт искусствознания при Министерстве культуры. Это было последнее место его работы, до самой смерти… Сначала Пушкинский, потом Академия художеств, потом Институт искусствознания. Почему он ушел? Был некто Кеминов — «серый кардинал» при Герасимове. Евсей написал большую книгу о голландском искусстве XVII века. Кеминов ему заявил: «Я прочитал вашу рукопись и там, где вы пишете, что Рембрандт — это искусство не реалистическое, а совсем другого типа, я поправил». В общем, вышел у них чисто научный спор. Евсей, как всегда, молчал. Пришел домой, даже мне ничего не сказал. И написал заявление об уходе. А мне просто сказал: «Ирина, ты знаешь, я больше там не работаю». Но я зря волновалась. Тут же, как узнали, что он свободен, его взяли в Институт искусствознания. Все-таки время уже было совершенно другое.
Встреча с Музеем
Мои первые впечатления от музея были, если можно так выразиться, очень суровыми. Он был просто закрыт: только огромные залы и пустые стены. Экспонаты прибыли в самом конце 1944 года. Их еще не достали, не рассортировали, не расставили и не развесили. Все покоилось в заполонивших пространство нераспечатанных ящиках. Распаковывать их работники музея не решались, потому что здание было в ужасном состоянии: промерзшее, холодное, с разбитыми стеклянными перекрытиями. Застекление крыши музея началось на моих глазах, когда я в апреле 1945 года была принята туда на работу. А пока я могла видеть только разбитые окна, стены со следами протечек да кучу ящиков с экспонатами, вернувшимися из эвакуации в родные стены. У меня сохранились фотографии, где видно, что в музее — прямо на полу — лежит снег, а в Итальянском дворике стоит вода, потому что снег, который падал через пробитые плафоны, уже растаял. Рядом с музеем во время бомбежек упала бомба, и следы от осколков можно было увидеть на фасаде с левой стороны, а плафоны роскошных люстр на всех трех этажах были полностью разбиты. Весной, когда таял снег, надо было вычерпывать воду и спускать ее вниз в тяжеленных ведрах. Для нас, молоденьких женщин, это было совсем не полезно, но занимались именно мы, научный коллектив отвечал за сохранность памятников искусства. Пожарный ведь даже не знает, как схватиться за гипс: он за него возьмется, думая, что это мрамор, а часть скульптуры отломится. Не так просто обращаться с такими вещами. Надо знать как. А знают только те, кто с ними работает, профессионалы. Когда мы только начали работать, в каждую группу молодежи обязательно включали научного сотрудника, пожарных, электриков, милиционеров, которые ночью каждые три часа обходили музей, чтобы посмотреть, нет ли протечки, нет ли какого-то ущерба экспонатам, потому что из-за плачевного состояния здания это легко могло произойти. Да и экспозиции собирались поспешно, на скорую руку, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное войной и начать работу. Детище профессора Цветаева еще долго не могли восстановить до конца. Когда я в 1961 году стала директором, эти протечки, приносившие нам столько бед и проблем, просто доводили меня до нервных срывов. Я бесконечно просила министерство обратить внимание на наше бедственное положение. Но, увы, проблема никак не решалась. К 1974 году это стало настоящей катастрофой. Вода текла изо всех щелей. Бывало, что меня вызывали ночью: «Ирина Александровна, течет на Пуссена!» И я вскакивала с постели, бежала, садилась в машину, ехала в музей и вместе с работниками снимала картины, спасала их, как могла. После очередной такой катастрофы я написала отчаянное письмо Алексею Косыгину, которое заканчивалось словами: «Умоляю, не дайте разрушиться музею». На следующий день его вернули с подписью: «Фурцевой, Промыслову. Принять меры!». И тогда все закипело.
«Джоконда»
«Ну, какая еще “Джоконда”»! Можно себе представить, во сколько это обойдется. Безумные деньги. Где они у государства?..» — думаю, примерно так я в то время и размышляла. А в 1974 году промелькнула в прессе информация, что «Джоконда» экспонируется в Японии. И тут я сообразила, что, наверное, летела картина через Москву. А как еще в Японию? Не через Америку же. Так оно и оказалось. И я подумала, что, скорее всего, и назад полетит через нас. А раз так, то нельзя ли ей в Москве сделать пересадку? С недолгим пребыванием на нашей российской земле. И как только эта здравая мысль пришла мне в голову, я, не раздумывая и не тратя времени, отправилась к Фурцевой и говорю ей: «Екатерина Алексеевна, великое произведение — “Мона Лиза” — показывается в Японии. А назад будет возвращаться через Москву. Что, если ее остановить, чтобы она наш музей на какое-то время посетила, а?
«Сделайте такое чудо. Вы же все можете», — неприкрыто льстила я ей. Но и на самом деле я к Фурцевой относилась с большим уважением. Потому что было за что. Не самый плохой министр культуры на моем долгом веку. Она была человеком дела. Разбиралась ли товарищ министр в литературе, я судить не берусь, но в искусствах пластических, как и многие, мало что смыслила, признаться. Но мне верила и вообще с уважением относилась к мнению профессионалов. Любила что-то сделать интересное, знаковое, решить сложную задачу, да так, чтобы получилось на славу. Я ей рассказала, кто такой этот Леонардо да Винчи, про его шедевр «Джоконда» и какой это будет успех и ее личный триумф, если мы сможем выставить картину в Москве. «Вы даже не представляете, Екатерина Алексеевна, какой это может иметь резонанс», — заключила я. Она выслушала и говорит: «Я попытаюсь». Но если уж быть совсем честной перед историей, то она выразилась так: «Французский посол в меня влюблен. Поговорю с ним, может, во имя любви договорится со своими». Слово Фурцева сдержала. К «влюбленному» французскому послу сходила и поговорила. И он, судя по всему, прекрасной даме не отказал — тоже поговорил с кем требовалось. И все получилось. Через месяц Екатерина Алексеевна позвонила и сказала: «Ирина Александровна, все сложилось. Будет вам ваша “Джоконда ”».Но французы выставили условие, что витрина для экспозиции должна состоять из пяти слоев стекла. Еще они обговорили климатические условия — влажность, освещение, температуру. И уровень охраны, разумеется. Невероятные, сложнейшие условия. Мы на все дали согласие. Но требуемое стекло в России не производили. Только на Украине. Мы и заказали. Екатерина Алексеевна распорядилась через Хрущева. И вот привезли картину. «Джоконда» у нас! Стекло тоже пришло, хоть и с опозданием. И витрину доставили. Уже десять вечера. Наконец картину вытаскивают из ящика… И когда начали вставлять в стекло, оно вдруг лопнуло. Не знаю почему. Может быть, просто рама косила. Были при этом я, главный хранитель музея Андрей Исаевич Губер и заведующий отделом искусства Министерства культуры Александр Георгиевич Халтурин. Очень крупная фигура в чиновничьей иерархии. И мы втроем наблюдаем, как мгновенно лопается стекло. А стекол таких на всякий случай мы заказали пять. Просим сотрудников вставить новое. Стали ставить второе. Лопнуло. Третье. Тоже лопнуло. Все схватились за головы. Поняли, что что-то происходит с рамой, видимо. Инженеры бегают, соображают, где проблема. А Александр Георгиевич мне и говорит (никогда этого не забуду — так громко и четко): «Ирина Александровна, сердце не выдерживает, я поехал». Я в ответ: «Поезжайте, Александр Георгиевич. Мы остаемся». Словом, инженеры справились. Четвертое стекло аккуратно встало на место. Зал рядом с тем, в котором должна была быть выставлена картина, полностью освободили для охраны. Это были вооруженные ружьями солдаты. Чтобы убивать всякого, кто подойдет слишком близко. Шучу, конечно. Но тогда было не до шуток. Тут ведь «Джоконда». И если что — наша вооруженная охрана в мгновение ринется в зал. И один раз все-таки пришлось... Для осмотра был предусмотрен круговой обход. Зрители входили, стояли какое-то время перед полотном, пока их не подпирали сзади другие страждущие, и, пятясь и не отрывая от «Джоконды» глаз, спиной выходили в другую дверь. Так и шло — как по писаному — все шесть недель.
И вдруг в какой-то момент раздался жуткий сигнал сирены. Что-то произошло. Я была на работе и, как все, кинулась в зал. Представьте себе — какая-то женщина от переполнявших ее чувств пронесла каким-то образом букет цветов и кинула «под ноги» «Джоконде». Естественно, сработала сигнализация. Сразу вылетели наши солдатики и с винтовками наперевес встали перед картиной в почетный караул. Невероятное зрелище! В публике ажиотаж и переполох. Что произошло? А ничего. Картина на месте. Сигнализация среагировала на брошенный букет.
С той женщиной истерика. Ее задержали. Может, она сделала это намеренно? Провокация? Международный скандал? Посмотрели на нее и сразу поняли, что она просто тетеха, сделала «от чувств-с», переполнившись восторгом, что видит «Мону Лизу»! Что ни говори, и правда — шедевр. Я-то все поняла. Вот только боялась, что начнут ее пугать, допрашивать… Но обошлось. Охрана ее сурово всю оглядела, прощупала и, как говорится, отпустила с миром. Даже им было видно, что она никакой не злоумышленник. Словом, в трудную минуту наша охрана справилась. Они круглосуточно были возле «Джоконды», отдыхали посменно в соседнем пустом зале: кто-то спит, кто-то бдит. И все прошло нормально. Все шесть недель, начиная с 17 июня. А потом мы всем музеем с ней прощались. Есть фотография, как мы стоим на колоннаде, ящик с картиной, ветер... У меня развеваются волосы, и у директора Лувра тоже. Мы говорим друг другу какие-то прощальные слова. И «Джоконда» от нас уехала. Но я ее проводила прямо к самолету. Как встречала ее у трапа, так и проводила…