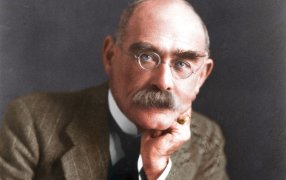Хотите отправиться в трехдневное путешествие в Петербург Достоевского? У вас есть шанс! ГодЛитературы.РФ запустил конкурс короткого остросюжетного рассказа «Детектив Достоевский» с фантастическими призами. Отправить свой рассказ вы можете до 10 октября. Подробности – по ссылке.
Текст: Юлия Сливина
Все теории стоят одна другой (М. Булгаков)
Меня часто и теперь еще спрашивают, отчего я отношусь к осужденным, как к людям. То есть не в том биологическом смысле, который все понимают и так, а в общечеловеческом: почему? Почему? Я? Отношусь? К преступникам? С добротой? В каждом этом вопросе скрыты свои отдельные. Я ли это отношусь – или вся моя жизнь была предопределена к тому, чтобы пытаться понять их и сделать что-то для них? С добротой ли – или же это часть меня верит в естественный отбор, орудием которого они являются? Я не спешу сразу отвечать: долго и внимательно смотрю на человека остановившимися глазами. Говорят еще: на зоне пристальный взгляд в глаза является признаком агрессии. Все иначе, все сложнее: если смотришь прямо в глаза – хочешь быть на равных. Я смотрю на человека, человек вглядывается в бездну… Если отведет глаза, то и говорить дальше не о чем. Ну а если не отведет, можно позволить себе немного откровенности. Но вы смотрите прямо, поэтому вам – расскажу.
В детстве я была тепличной: более оторванного от реального мира ребенка и представить нельзя. То не трогай, туда не ходи, не рискуй… Неудивительно, что со смертью моей дорогой мамы я оказалась в четырнадцать лет лицом к лицу с миром, о котором не имела ни малейшего понятия. Я впервые погрузилась в сырую темноту барачных подъездов, вдохнула аромат ночи и мокрой листвы, увидела простых людей с их простынями, которые они сушили на улице, с их личной жизнью напоказ. Я была влюблена в тот новый мир, который увидела. Я была совершенно патологически счастлива от тех вещей, которые большинство людей радовать не могли. Что за жизнь была в бараках, что за жизнь моих новых друзей в этих мрачных катакомбах трущоб? Не судите строго: я была новорожденной и радовалась каждому мгновению.
Со смертью я впервые столкнулась, когда меня подвели к гробу моей матери. Я сделала попытку сличить запах свежих яблок, шуршание шоколада, тонкий аромат импортных духов с неким содержимым бархатного ящика. Оттуда быстро, резко глянула на меня смерть – так, чтобы никто не заметил этого. Страдание и боль выражало это лунообразное лицо, и тонкая струйка крови вилась из-под платка на белую подушку в крестах и молитвах. Мне стало жаль этой струйки крови, этого надругательства над человеком, этой беспомощности, еще одной капли крови, запекшейся на губах – мне стало жаль все человечество за то, что каждый из нас умрет. Человек, пожалевший хоть раз всех людей вместе, скопом, без разбору, перестанет жалеть каждого в отдельности.
Я лгала себе: я вовсе не была такой уж сильной (в свои-то четырнадцать!). Мне иногда казалось, что и я не вполне жива, что я лежу в таком же бархатном ящике, а все, что вижу – иллюзия. Я должна была почувствовать жизнь, пульсацию крови в висках, комок в горле, когда перехватывает дыхание. Я часто бродила по тем местам, где не только девочке, но и вовсе кому бы то ни было находиться среди ночи было опасно. У нас было два градообразующих предприятия: шахта и зона. Так что вполне ожидаемо, что если целый год мне и удавалось избежать встречи с представителями второй группы, так это только по счастливой случайности. Смерть обходила меня за три версты, хотя была не из трусливых.
И вот мы повстречались в тенистой аллее, которую все местные знали как «Аллея выбитых зубов». Это была весьма живописная лесополоса, и сосны смыкали доверчиво свои ветви где-то высоко, образуя подобие церковного купола, так не шедшего ко всему, что под ним происходило. На этой тропинке между деревьев могли легко разминуться два человека, но воплощенное презрение и негодующее равнодушие – никогда! Нам было мало места – кто-то был лишним. Он держал на плече широкий нож из тех, которыми пользуются на маслобойнях и хлебозаводах, а может, и мясокомбинатах – словом, это был очень большой нож. Я была с пустыми руками и даже без рукавиц. Он молча толкнул меня в том направлении, куда шел. Я развернулась и пошла. Мы прошли в молчании некоторый отрезок дороги.
- Садись, - сказал он, не предложив мне стула.
Я тут же села на снег, не ища места поудобнее.
- Опусти голову, - последовало новое указание.
- Опустить во что?
Не судите меня строго, уже тогда будущий писатель пробивался во мне сквозь толщу упадочного бреда. Последовал достаточно сильный удар в затылок, от которого у меня засверкало в глазах. Тогда я и узнала, что мультики не врут: эти звездочки и птички в самом деле существуют.
Я склонилась вперед. Мне представились самураи, отсекающие друг другу головы за предательство. Я думала, предала ли я кого-нибудь. Думаю, да. Я предала себя.
Он наклонился, взял меня за подбородок и повернул к свету. Карие, почти черные глаза смотрели на меня испытующе, с ненавистью и презрением.
- Проститутка?
- Нет.
- Наркоманка?
- Нет.
- Кто?
- Человек.
- Че-ло-век?! – слово прозвенело и повисло в тишине, такое непривычное и странное. Уж конечно, такого он не ожидал.
- И сколько же тебе лет?
- Четырнадцать, - почему-то обиделась я.
Он встал, схватил меня за руку и потащил в каком-то направлении. Я едва успевала, идти с ним в ногу не получалось, поэтому всю дорогу до частного сектора, а это было добрых три остановки, несколько молчаливых ночных перекрестков, семенила, молясь о том, чтобы только не наступить ему на ногу.
Мы пришли в частный сектор, район беспредела и беззакония, где можно сгинуть навеки вечные и где никого не станут искать, потому что сама милиция боится входить в это Аидово царство. Вполне логично, что он там жил.
Он усадил меня на диван, налил мне домашней настойки – вещица покрепче коньяка! – и спросил, почему я не стала орать. Я ответила, что привыкла молчать. Мы помолчали: я – по привычке, он – за компанию. Он спросил, точно ли, что я не проститутка. Я ответила, что я ни разу не проститутка. Он напрягся и выпил еще. Так мы встретились: воплощенное презрение и негодующее равнодушие. После этого я не только выжила, но и часто бывала у него. Он читал мне Ницше. Он научил меня стрелять из охотничьего ружья. И рассказал, куда надо бить, чтобы покалечить, а куда – чтобы сразу убить. Но не в этом суть. Он подарил мне тот момент моей биографии, после которого я перестала быть негодующим равнодушием.
Мы отправились куда-то без предварительных объяснений – как это и случалось всегда. Там были разные другие люди – и они были действительно очень разные. Теперь уже возможно встретить на улице человека с зелеными волосами и с татуировкой во всю спину, а тогда… Я даже немного удивилась, сквозь пелену своего равнодушия, этим людям и тому, как они прокалывали свое тело и где на нем рисовали. Но не в этом дело.
В тот вечер мне было предложено убить человека. Не то, чтобы человека – а некое жалкое существо, распластавшееся перед нами дохлой лягушкой. Жалкое существо было женского пола, о чем свидетельствовал яркий макияж, стекающий по щекам, какая-то старая юбка и что-то еще, сокрытое от меня памятью, моим безжалостным стражем у совести на службе. Существо предлагалось убить ножом. И начинала, конечно, не я.
- Как я говорил тебе – помнишь? Ничего не будет – ее не будут искать, она никто, просто тварь, так что попробуй, попробуй, попробуй, – это слово и по сей день звучит в моей голове, когда я злюсь на кого-то, когда кто-то злится на меня. Мне ничего не стоило «попробовать»! Но вот ведь в чем вся штука. Память всегда была стражем на службе у моей совести.
И когда я наклонилась, чтобы нанести тот самый удар – с расчетом на мгновенную смерть, примеряясь не к жертве, а к собственной руке, я вдруг увидела боковым зрением, а потом и во все глаза уставилась на нее: из ее головы, из затылочной части, струилась кровь. И та же капля крови была на ее запекшихся губах. Красный ящик пронесли и поставили в мой дом, как факт. Как артефакт. Как виток всё той же спирали.
Я отрицательно покачала головой, и он показал мне рукой уйти в сторону. Я и ушла. Они были чистильщики: считали, что очищают город от мусора. От биомусора. Они изобрели одну из теорий, которая «была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит».
Наша дружба была недолгой, но она многое дала мне. Прежде всего, умение вовремя уходить. Еще: память. Этой струйки крови мне не забыть уже никогда. И снова: бережность. Он заботился обо мне, как мог, на том уровне понимания, который у него был. Я больше не нуждалась в доказательствах того, что я жива. Мне не нужно было больше испытывать пульсацию крови в висках, комок в горле, нехватку воздуха. Я была жива – это было очевидно. Я больше не была негодующим равнодушием. Я никогда не стану воплощенным презрением. Жалею об одном: ушла, не попрощавшись, не сказала слова благодарности. Моя благодарность через время, всем им – любителям теорий.
Меня часто и теперь еще спрашивают, отчего я отношусь к осужденным, как к людям? Почему? Я? Отношусь? К преступникам? С добротой? В каждом этом вопросе скрыты свои отдельные. Имею ли я к ним отношение, не было ли хоть единого мгновения, когда я, разбирая эту дикую теорию, что-то в ней нашла? И я говорю: было, было, как у всякого, кто сбился с пути и потерял ориентир. И почему к преступникам, когда есть более достойные помощи и великодушия? Многие из них движутся вслепую, многим путь определен заранее, как моему когда-то хорошему знакомому. Но ритуал знакомства всегда одинаков: я сегодня смотрю на человека, человек вглядывается в бездну… И пока что ни один из них не отвел глаза в сторону.