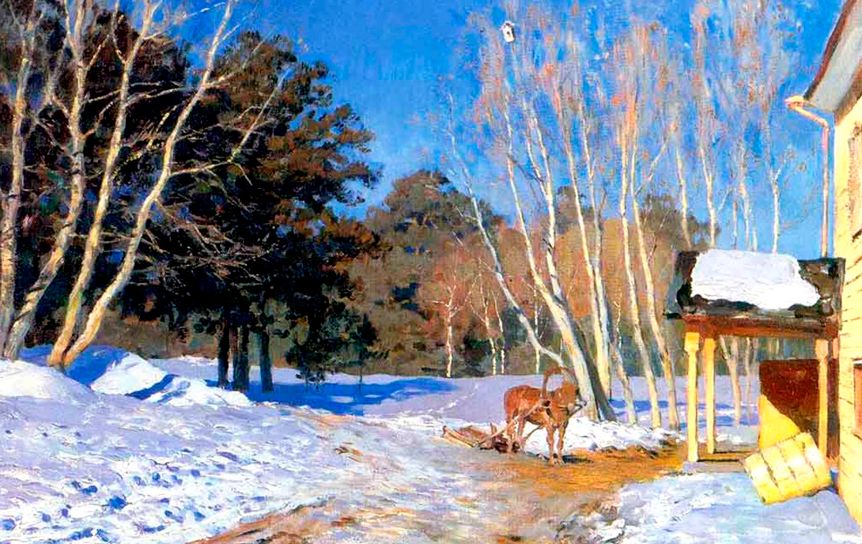Текст: Денис Безносов
1. Elif Batuman. Either / Or
Penguin Books, 2022
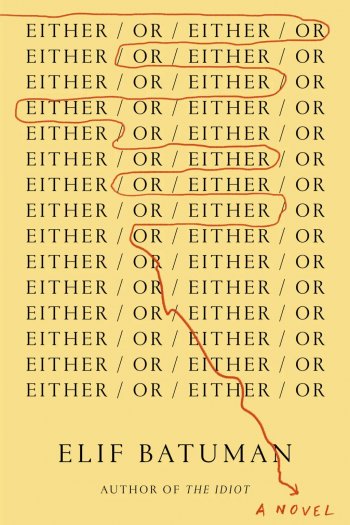
Девушка Селин, героиня первой части бильдунгсромана The Idiot, теперь второкурсница и смотрит на свои поступки — скажем как рванула за парнем в Венгрию, одерживая любовным переживанием — несколько отстраненно, будто уже слегка повзрослев. Она по-прежнему, но с еще большим упорством сравнивает себя с литературными персонажами, анализирует происходящие с ней события с точки зрения композиции художественного текста и, разумеется, последовательно осознает в себе писателя. Она смотрит на мир и населяющих его людей отстраненно, дотошно изучает внутреннее устройство своего под- и бессознательного, много рассуждает о своей сексуальности и пытается понять, почему окружающие делают именно то, что делают, и говорят, что говорят. Словом, Селин — вполне привычный персонаж для всей западной литературы и кинематографа, находящийся в постоянном поиске, в постпубертатном протесте против бессмысленно-пустоголовой действительности. И, конечно, будучи вымышленным персонажем она до боли напоминает саму Батуман.
Подобно своему предшественнику, Either / Or демонстративно литратуроцентричен — там был Достоевский, здесь Кьеркегор (оба источника довольно ожидаемы, потому что полны солипсизма, экзистенциализма, бинарных оппозиций и невыносимой тяжести бытия). Вынесенный в заголовок мыслитель считал, что всякий волен либо прожить свою жизнь как произведение искусства, либо просто быть добропорядочным человеком. В первом случае необходимо совершать сумасшедшие поступки, жить на полную, независимо от пагубных последствий, во втором — соблюдать правила, помогать, выслушивать. По Кьеркегору, человек пребывает между этими двумя полюсами существования (хотя явно должен тяготеть к первому). Взрослеющая героиня Батуман тоже раскачивается от одного к другому и пока не знает, в каком направлении ей больше нравится. Ответы на свои вопросы она ищет в мрачно-аскетичной русской культуре и горько-ироничной европейской философии (с перекосом в русское). То есть действует так, как того требуют клише. Надо полагать, будет и третий том, где Селин таки повзрослеет.
2. Sophie Ward. The Schoolhouse
Corsair, 2022
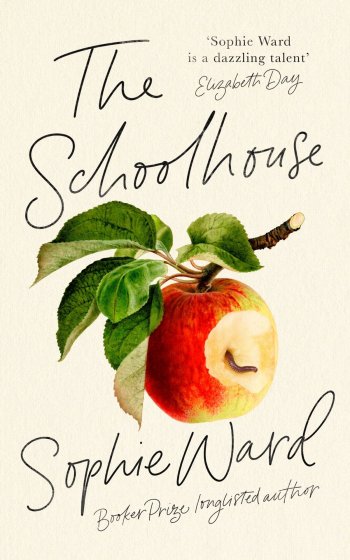
Изобель живет педантично распланированной жизнью на севере Лондона, работает библиотекарем и всеми силами избегает вмешательства извне. Она — интроверт, потеряла слух в детстве из-за несчастного случая, отчего чурается любых контактов с окружающим миром (даже окна в ее крошечной квартирке почти всегда зашторены). Салли Картер — детектив, такая всемогущая девушка из кино про расследования, где «дальше мы сами», водянистый кофе в бумажных стаканчиках и пробковая доска с фотографиями и паутиной из ниток. Салли тоже живет в северном Лондоне, борется с сексизмом, подкалывает мужчин-полицейских, забывает поспать — то есть соответствует требованиям жанра. Сюжетные линии Изобель и Салли переплетутся в злосчастный уикенд, когда по дороге домой из школы пропадет десятилетняя девочка, а однокашник Изобель из далекого прошлого выйдет из тюрьмы и пришлет ей письмо, чтобы сообщить об этом. Архетипичный детектив примется расследовать исчезновение девочки, допрашивать свидетелей и подозреваемых, собирать улики и доказывать городу и миру, что способен все сделать самостоятельно. Архетипичная героиня-жертва-интроверт примется копаться в болезненных воспоминаниях и травмах.
С одной стороны, The Schoolhouse устроен чрезвычайно запутано – сразу несколько жанровых конструкций, демонстративно нелинейное, скачущее по хронологии повествование, различные формы письма (дневники, письма, классическое третье лицо), двухголовая композиция и целый ворох важных размышлений – о травме, социуме, бесправии женщин, необходимости протеста и прочем. С другой, проза Софи Уорд по-прежнему воспринимается как нечто хоть и вычурно-надуманное, но предельное простое, даже чересчур упрощенное. Если в Love and Other Thought Experiments Уорд дробила художественный текст на фрагменты, перемежая его отступлениями с обильными интертекстуальными отсылками к великой мировой культуре, то здесь текст усложняется за счет совмещения двух сюжетов и на первый взгляд не вполне очевидной связью героинь. Но в обеих книгах, написанных вроде бы неплохо, ощущается некоторая искусственность и необязательность.
3. Хилари Мантел. «Сердце бури»
Азбука, 2022

Когда никто не знал о существовании знаменитой нынче Хилари Мантел, а три увесистых книги о Томасе Кромвеле и придворных интригах XVI-го века еще не были написаны, не без мучений вышла большая беллетризованная хроника Великой французской революции и ее главных создателей. В «Сердце бури» Робеспьер, Демулен, Дантон, Марат и прочие знаменитости ведут горячие споры, бьются за правду и последовательно конструируют кровавый террор, жертвами которого в скором времени окажутся сами. Исторические персонажи в исполнении Хилари Мантел как всегда кажутся живыми, почти современными людьми, изъясняющимися без излишней архаики и сопутствующих стилизаций (хотя, по признанию самой Мантел, в их речи использованы преимущественно прямые и косвенные цитаты). События преподносятся в подробностях, без перемены рассказчиков-ракурсов-оптик и без авторского вмешательства, отчего проза Мантел читается плавно, последовательно, временами ненадолго увлекая, но чаще убаюкивая своей стройной безупречностью.
Слабость линейной исторической прозы как таковой — в отсутствии художественной задачи, внеисторического высказывания, отступлений и — как ни странно — вымысла. На самом деле Мантел, несомненно, виртуозный и выдающийся автор — именно потому зачастую скучна, поскольку интересуется историей самой по себе, стремится пересказать реальное о реальности. В романе, как и в знаменитой трилогии о Кромвеле, нет ни отсылок к современности, ни авторского голоса, отчего роман читается как причесанный и напичканный диалогами университетский учебник. Там, где Мережковский разыскивает метафизические закономерности, Грасс каталогизирует столетие, Зебальд размывает грани между фактами и интерпретациями, а Иллиес, наоборот, обрушивает на читателя груды совпадений и перекличек, Мантел просто рассказывает о Французской революции: подробно, избыточно и без подтекста. Увы, историческая проза сама по себе беспомощна и требует каких-то дополнительных (постмодернистских или нет) надстроек и формальных решений, которыми как правило пренебрегают. У Мантел они есть — будь то фрагментарная структура текста или краткие инородные врезки с чьей-то прямой речью о Париже либо об уровне смертности во Франции конца XVIII века, — но этого явно не хватает, чтобы превратить восьмисот-с-лишним-страничный фолиант в современную литературу. Впрочем, мастерство Мантел едва ли может быть подвергнуто сомнению, и «Сердце бури» явно придется по душе читателям.
4. Donald Antrim. One Friday in April
W. W. Norton & Company, 2021
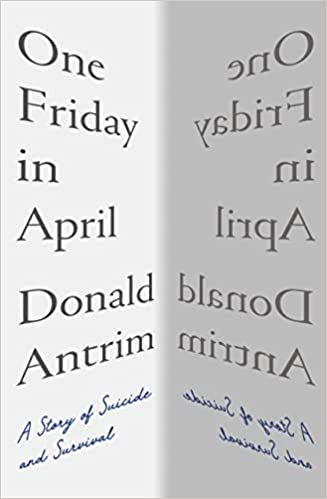
Творчество писателя-абсурдиста Дональда Антрима у нас практически неизвестно. Тем не менее, его проза крайне любопытна и кое-где напоминает об эстетике обэриутов (сравнить хотя бы удушливые ритуалы его The Hundred Brothers с «Елкой у Ивановых»). В 2006-м Антрим пережил тяжелейшую депрессию (или «телесно-мозговую болезнь») и из-за этого чуть не покончил с собой. В своем мемуарном эссе One Friday in April он попытался рассказать об этом периоде своей жизни предельно прямолинейно, запечатлеть мучительное состояние, преследующее человека повсюду, состояние, находясь в котором человек не способен анализировать происходящее, а вынужден терпеть и искать хоть какие-то выходы. «Боль будто бы возникала внутри моей кожи, мышц, суставов, костей. Но когда я себя касался, то не мог нащупать ее источника. Мне казалось, что болит повсюду, и в то же время, что не болит нигде». Таким образом Антрим описывает ощущения, которые достигли своего пика в ту апрельскую пятницу, когда, не вполне отдавая себе отчет в том, что делает, писатель повис на пожарной лестнице.
One Friday in April — своего рода продолжение автобиографического очерка The Afterlife, где Антрим рассказывал о своей семье — о том, как спивался дядя, о непростых взаиморазрушительных (и взаимозависимых) отношениях с матерью, об изживании безысходности и парализующей апатии. Писатель связывает депрессию «той апрельской пятницы» с чувством вины за написанное о семье прежде, с ощущением собственной неправоты перед родными. Он проходит курс медикаментозного лечения, но без толку. Наконец, ему звонит его друг Дэвид Фостер Уоллес и уговаривает на электрошоковую терапию (по горькой иронии, сам ДФУ покончит с собой двумя годами позже). One Friday in April — очень честная и оттого неуютная исповедь человека, прошедшего через персональный ад, чтобы в итоге обрести спокойствие, отыскать слова и поведать об этом на бумаге.
5. Benjamin Myers. The Perfect Golden Circle
Bloomsbury, 2022
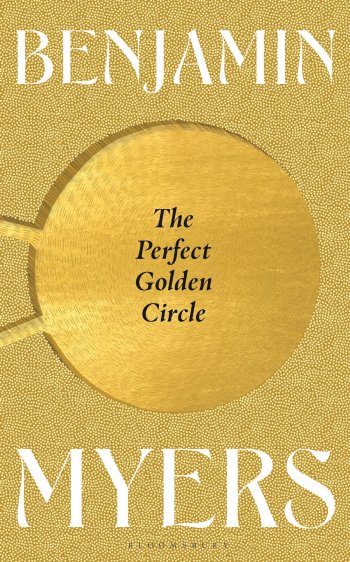
Два странноватых отшельника, похожих на Владимира с Эстрагоном, ездят по ничейным полям на полуразвалившемся фургоне и в тайне ото всех рисуют там гигантские круги. Каждая такая композиция неповторима, поражает масштабом и совершенством геометрии, каждая превосходит предыдущую. Самое страшное, что может случиться, — это если кто-то застанет их за работой, разгадает загадку причудливо-невероятных творений и поведает об открытии всему миру. Тогда замысел будет навсегда разрушен. Потому что особенно важен вовсе не итоговый результат (хотя он, несомненно, важен), но медитативный и весьма трудоемкий процесс сотворения природных полотен, когда художник постепенно сливается с самим актом творения и таким образом обретает некое единение с наблюдаемой реальностью — землей, растениями, воздухом, небом. Поэтому нельзя не продолжать создание витиеватых узоров — сначала в голове (подсознании), затем в физическом пространстве. Нельзя остановиться, поскольку тогда, утратив и без того эфемерный смысл, прервется процесс жизни.
Проза Бенджамина Майерса напоминает о Беккете, Кормаке Маккарти, Джоне МакГахерне (о его That They May Face the Rising Sun) и Кевине Барри (Night Boat to Tangier и Beatlebone) — промозгло-пустотное пространство, одинокие, никому ненужные и почти безымянные персонажи, сомнамбулические диалоги и герметичная притчеобразность. В основе действий героев лежит некий не до конца осознанный, толком не вербализованный ритуал. И вроде бы поступки персонажей The Perfect Golden Circle наделены каким-то скрытым от глаз смыслом, вроде бы их действия подчинены высокой цели, но для окружающих созданные ими произведения останутся лишь свидетельствами о существовании внеземных цивилизаций. А сами они, не очень-то расстроенные реакцией публики, продолжат и дальше рисовать на полях узоры, не представляя, чем еще могли бы заняться. «После осознания, что жизнь — всего лишь краткая фаза внутри гиперболического континуума, что были и другие жизни, что дальше будут и другие жизни, их интересовало несколько вещей, и рисование кругов на полях было одной из них. Порой казалось, что единственной».
6. Флориан Иллиес. 1913. Лето целого века (пер. С. Ташкенова)
Гараж, 2022
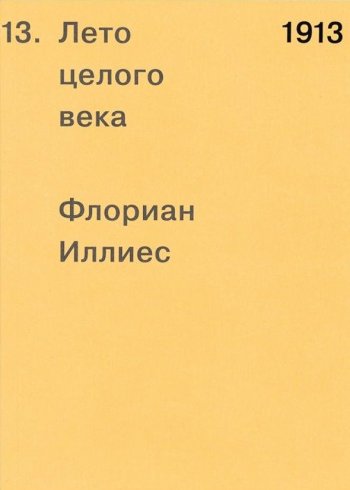
Накануне мировой катастрофы выдался чрезвычайно насыщенный год. Томас Манн задумывает «Волшебную гору», а Музиль — «Человека без свойств». Сталин под именем Ставрос Пападопулос скрывается на венской квартире у Трояновских возле Шенбрунского парка, неподалеку от которого на съемной квартире рисует акварели художник-неудачник Адольф Гитлер. Франц Кафка переживает сумасшедшую влюбленность в Фелицу Бауэр. Дюшан работает библиотекарем и выставляет в Нью-Йорке «Обнаженную, спускающуюся по лестнице». Оскар Кокошка без ума от Альмы Малер. Рильке заводит отношения, страдает и ссорится с Роденом, а Камилла Клодель попадает в психушку. Вирджиния Вульф заканчивает первую книгу. Стравинский празднует премьеру «Весны священной»(наделавшую немало шума). Лоуренс публикует «Сыновей и любовников». Гертруда Стайн вдребезги и навсегда ссорится с братом. Франц Фердинанд с упоением играет в железную дорогу. Чарли Чаплин подписывает свой первый контракт. Луи Армстронг впервые выступает на публике. Прада открывает в Милане первый бутик. Юнг собирает «Красную книгу». Брехт мучается насморком. И так далее.
1913-й поражает плотностью событий, насыщенностью смыслами, из которых прорастет искрометный и кровавый XX-й век. Флориан Иллиес предлагает беллетризованную хронику несвязанных между собой ситуаций с участием случайных личностей, которым суждено будет создать великое искусство и науку, сконструировать искалеченный политикой ландшафт, так или иначе изменить будущее человечества. Они встречаются на улицах и проходят мимо, ничего не зная друг о друге. Скрупулезно копаясь в переписках, дневниках, газетах и прочих наглядных свидетельствах, Иллиес демонстрирует клочок истории с разных ракурсов — вот Ленин признается в письме Горькому, что мировой революции сейчас не помешала бы война, вот Кирхнер ссорит между собой художников из Die Brücke, из-за чего группа распадается, вот Кафка с Эйнштейном живут на одной улице и одновременно пишут возлюбленным в Берлин. Более чем столетняя дистанция позволяет не только взглянуть на 1913-й как на пролог к веку, но и проследить некоторые (нынче пугающе очевидные) закономерности, будто бы растворенные во всем, что тогда делалось, говорилось и задумывалось. При этом никаких долгоиграющих выводов Иллиес демонстративно не делает, разве что аккуратно намекает, мол, скорее всего все было со всем связано и происходило не просто так. Или просто так, но потом все равно сложилось в целостную картину.
7. Julian Barnes. Elizabeth Finch
Penguin Books, 2022
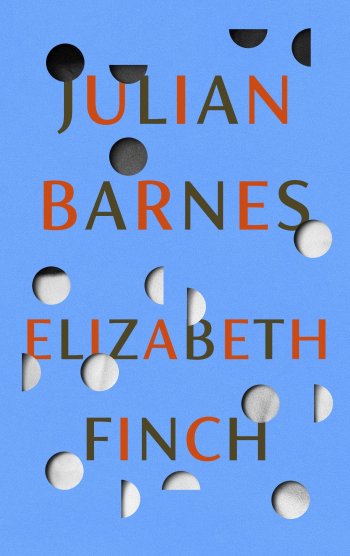
Джулиан Барнс любит и умеет обманывать читателя. Его романы (особенно поздние) на первый взгляд кажутся вполне традиционными реалистичными повествованиями с осязаемыми персонажами, камерными коллизиями и изящным психологизмом. Герои обедают, разговаривают, анализируют прошлое, переживают утраты, фиксируют наблюдения. Однако вскоре привычный порядок вещей как будто искажается, и линейный сюжет перерастает сначала в социокультурное лирическое отступление, затем превращается в отвлеченное эссе и, наконец, ныряет обратно в повествование. Дело в том, что такая прихотливая форма нарратива (а Барнс, подобно его любимцу Флоберу, знает толк в прихотливых формах) последовательно вбирает в себя содержание. Так, квазибиография Flaubert’s Parrot о чучеле попугая сама становится чучелом, а Staring at the Sun на уровне структуры демонстрирует эффект, о котором рассказывает один из героев (когда при взлете летчик видит восход дважды). Таким же отчасти образом устроена биография вымышленной преподавательницы культурологии Элизабет Финч, начинающаяся как импрессионистичная воспоминательная проза и перерастающая потом в едкое размышление о природе религии и становлении национальной памяти.
Elizabeth Finch – это и The Sense of An Ending, и все тот же Flaubert’s Parrot. Герой по имени Нил рассказывает историю одинокой, замкнутой женщины, всю свою жизнь тихо протестовавшей против заскорузлых моралей, навязываемых человеку социумом. Одним из центральных ее рассуждений становится исследование аберраций памяти, особенно коллективной – намеренных и стихийных. «Обыкновенно мы почитаем мертвых, но, почитая их, мы в некоторой степени еще больше их умерщвляем». Мертвые беспомощны, поэтому при помощи памяти мы вольны делать с ними и с фактами их жизней что угодно (перекличка с «Памяти памяти» Марии Степановой). Протагонист постоянно возвращается к цитате Эрнеста Ренана – «Неверное восприятие своей истории - неотъемлемая часть бытования нации». Он пишет о Юлиане Отступнике, о том, как от одной эпохи к другой менялся его образ, о природе монотеизма, моногамии, монокультуры и прочих моно. Он нащупывает истину, фактологическую подлинность и сомневается в ее существовании. А текст, в котором обитает герой Барнса, между тем трансформируется до неузнаваемости и обрывается на полуслове.
Подробнее о романе Джулиана Барнса можно прочитать в нашей отдельной рецензии: