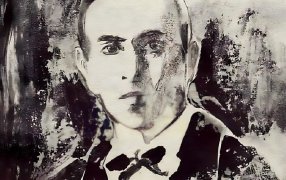Текст: Фёдор Косичкин
На протяжении всей истории мировой литературы этому типу отношений посвящено немало произведений. Перед официальным запуском федеральной программы «Год педагога и наставника» мы хотим напомнить только дюжину из них. А еще — стихотворение Евгения Винокурова:
- Художник, воспитай ученика,
- Сил не жалей его ученья ради,
- Пусть вслед твоей ведет его рука
- Каракули по клеточкам тетради,
- Пусть на тебя он взглянет свысока,
- Себя на миг считая за провидца.
- Художник, воспитай ученика,
- Чтоб было у кого потом учиться.
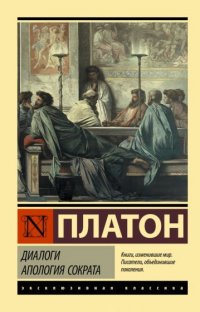
1. Сократ и Платон в «Апологии Сократа» и диалогах Платона (IV век до н.э.)
Диалоги Платона – источник большей части сведений о его учителе, мудреце и «подрывном элементе» Сократе. Что дало даже основания некоторым парадоксалистам нового времени уверять, что мудрец Сократ – порождение литературного таланта Платона. Но это всё-таки не более чем эффектный парадокс. Сократ действительно существовал. И действительно учил афинских юношей мыслить возмутительно самостоятельно. Кстати, через много сотен веков у этой пары нашлось «зеркало»: Карлос Кастанеда и Дон Хуан. Который тоже непонятно, то ли был, то ли просто был использован Кастанедой (о котором тоже мало что известно) в качестве удобной собирательной фигуры. И тоже учил невесть чему.
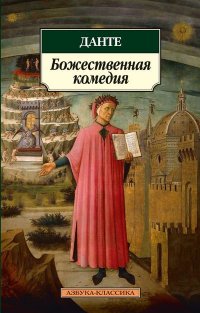
2. Вергилий и Данте в «Божественной комедии» Данте Алигьери (1328)
Флорентинский поэт жил больше чем через тысячу лет после поэта римского; но действительно считал его своим учителем – ”lo mio maestro, il mio autore” («Мой учитель, мой любимый автор») и визионерской силой своей фантазии вступил с ним в прямой контакт.
3. Робинзон Крузо и Пятница в «Робинзоне Крузо» Даниеля Дефо (1719)
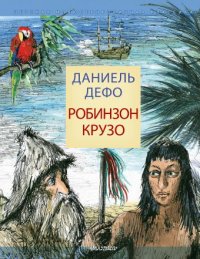
Примечательно, что, спасши юного дикаря из рук каннибалов, англичанин Крузо не пытается объявить его своим рабом – хотя в работорговле в конце XVII века не было ничего особенного, – а находит в нем идеального ученика: сметливого, преданного… и девственно невежеcтвенного. Что окончательно замкнуло выстроенный Робинзоном на острове идеальный мир цивилизованного англичанина.
4. Петр I и Лефорт в «Петре I» Алексея Толстого (1934)

Современник вымышленного Робинзона, исторический Франц Лефорт скоропостижно умер в 1699 году, не успев увидеть главные свершения своего молодого друга – московского царя. Но, по Толстому, эти успехи – во многом заслуга именно его, швейцарца Лефорта. Который говорит 21-летнему Петру в 1693 году в Архангельске: «Я давно этого ждал, Петер... Ты в возрасте больших дел...» И все оставшиеся ему шесть лет помогает и направляет в этих больших делах – от Азовского похода до Великого посольства.
5. Иешуа и Левий Матвий в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова (1940)
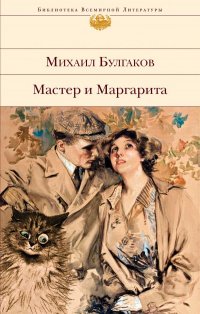
Левий Матвий – лично преданный, но непокорный и, главное, «не догоняющий» ученик проповедника Иешуа. Чтò из его записей (фактически – протоевангелия) передает истинное учение учителя, а что является произвольной интерпретацией ученика – так и остается непроясненным. Булгаков зеркалит евангельский сюжет в современности: отношения Ивана Бездомного, раскаявшегося и ставшего профессором Иваном Николаевичем Поныревым, с оставшимся безымянным Мастером, вполне можно уподобить евангельским.
6. Отец Иаков и Йозеф Кнехт в «Игре в бисер» Германа Гессе (1943)
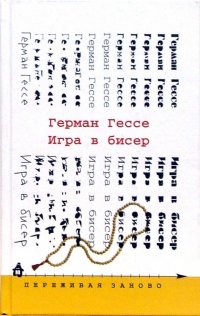
Интенсивное общение молодого кастальца, будущего магистра игры в бисер, и пожилого историка-бенедиктинца – только часть пространного сюжета философского романа-аллегории. Но, возможно, часть важнейшая. Именно отец Иаков постулируют modus operandi, дорогой любому настоящему интеллектуалу: «Оба рода деятельности, которые на протяжении всей моей жизни были самыми любимыми для меня – учиться и учить, – превосходно сочетаются в наших совместных занятиях». Примечательно, что в конце романа Йозеф добровольно складывает с себя пышный, но искусственный титул магистра игры, чтобы стать домашним учителем – и это решение оказывается для него в прямом смысле слова роковым.

7. Дюйшен и Алтынай в «Первом учителе» Чингиза Айтматова (1963)
Суровый и пронзительный истерн молодого Айтматова о пылком молодом учителе и талантливой девочке-подростке, которым приходится противостоять жестко-консервативному обществу – видящему в Алтынай не перспективную ученицу, а созревшую невесту, которую пора сбывать с рук. Так Айтматов задолго предвосхищает феминистский дискурс – а также ненавязчиво ставит вопрос, который в полный голос зазвучал, например, в романе «Географ глобус пропил» – можно ли молодому учителю влюбляться в ученицу? То, что симпатия Дюйшена к способной Алтынай быстро перестает быть чисто педагогической, очевидно всем, кроме него – как и причины ярости, с которой он вырывает ее из лап навязанного мужа. Но у Айтматова, в отличие от Иванова, поставленный вопрос истаивает в воздухе.
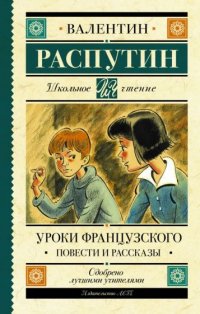
8. Лидия Михайловна и Вовка в «Уроках французского» Валентина Распутина (1973)
Хрестоматийный и, можно сказать, зеркальный по отношению к повести Айтматова рассказ о трудном послевоенном сибирском детстве. В котором молоденькая, сразу после института, и, откровенно сказать, довольно взбалмошная, но добрая и милосердная городская учительница и поневоле зачерствевший и повзрослевший раньше времени 11-летний деревенский пацан смогли научить друг друга более важным вещам, чем никак не дававшийся Вовке проклятый «веаисоир» – то есть ни за чем ему не нужное французское Beaucoup.
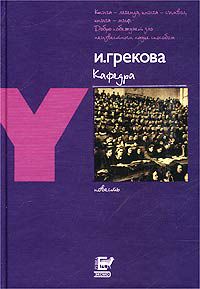
9. Николай Николаевич Завалишин и Нина Асташева в «Кафедре» И.Грековой (1978)
Сама математик, Елена Вентцель (И.Грекова) придумывает в своей известной повести эффектный драматический ход: разбирая бумаги покойного завкафедрой, которого все называли Н.Н., доцент этой же кафедры Нина с грустью обнаруживает, что из них невозможно соорудить никакого «научного наследия»: Н.Н. в старости просто утратил свой могучий дар математика, так ее некогда поражавший и восхищавший. Но зато со смущением понимает из этих бумаг, что она, Нина, очень интересовала старика Н.Н. как женщина. И тогда идет на подлог: приписывает Завалишину собственную оригинальную научную работу. В благодарность за когдатошнее научное руководство или за позднюю деликатную любовь?
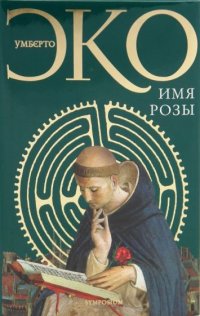
10. Вильгельм Баскервильский и Адсон в «Имени Розы» Умберто Эко (1980)
Классическая пара «проницательный сыщик» – «простодушный помощник» отнесена лукавым семиотиком-медиевистом в далёкое Средневековье и, главное, разнесена по возрастам. Если Холмс и Ватсон – друзья-ровесники, то Вильгельм с говорящей фамилией годится по возрасту в отцы юному послушнику Адсону (Ватсону?) – и выполняет функции классического наставника. Причем настолько успешно, что к концу романа сам Адсон начинает ясно видеть человеческие недостатки своего обожаемого учителя. Что ничуть не умаляет его восхищения. А в финале, при расставании, Вильгельм символически передает Адсону свои очки – символ книжной учености.
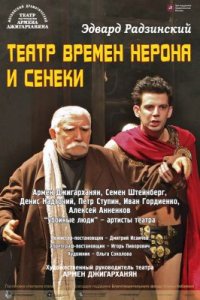
11. Сенека и Нерон в «Театре времен Нерона и Сенеки» Эдварда Радзинского (1985)
Пьеса об ответственности учителя перед учеником, за ученика. Конкретно – об ответственности высокоученого Сенеки за то, что его воспитанник Нерон стал тем, кем он стал. И, горькая шутка судьбы, велел Сенеке покончить с собой. Как бы за то, что Сенека утомил эгоистичного и тщеславного императора своей суровой правдой, которую ему одному по старой памяти дозволялось говорить. Но ведь получается – и за то, что плохо воспитал.

12. Затворник и Шестипалый в одноимённой повести Виктора Пелевина (1990)
Одна из дебютных повестей Виктора Пелевина, в которой впервые воплощается коллизия, впоследствии ставшая для него основной: пытливый юноша, который под чутким руководством мудрого наставника постепенно прозревает духовные истины. И то, что оба героя – бройлерные цыплята, ничeго в их отношениях «учитель – ученик» не меняет.