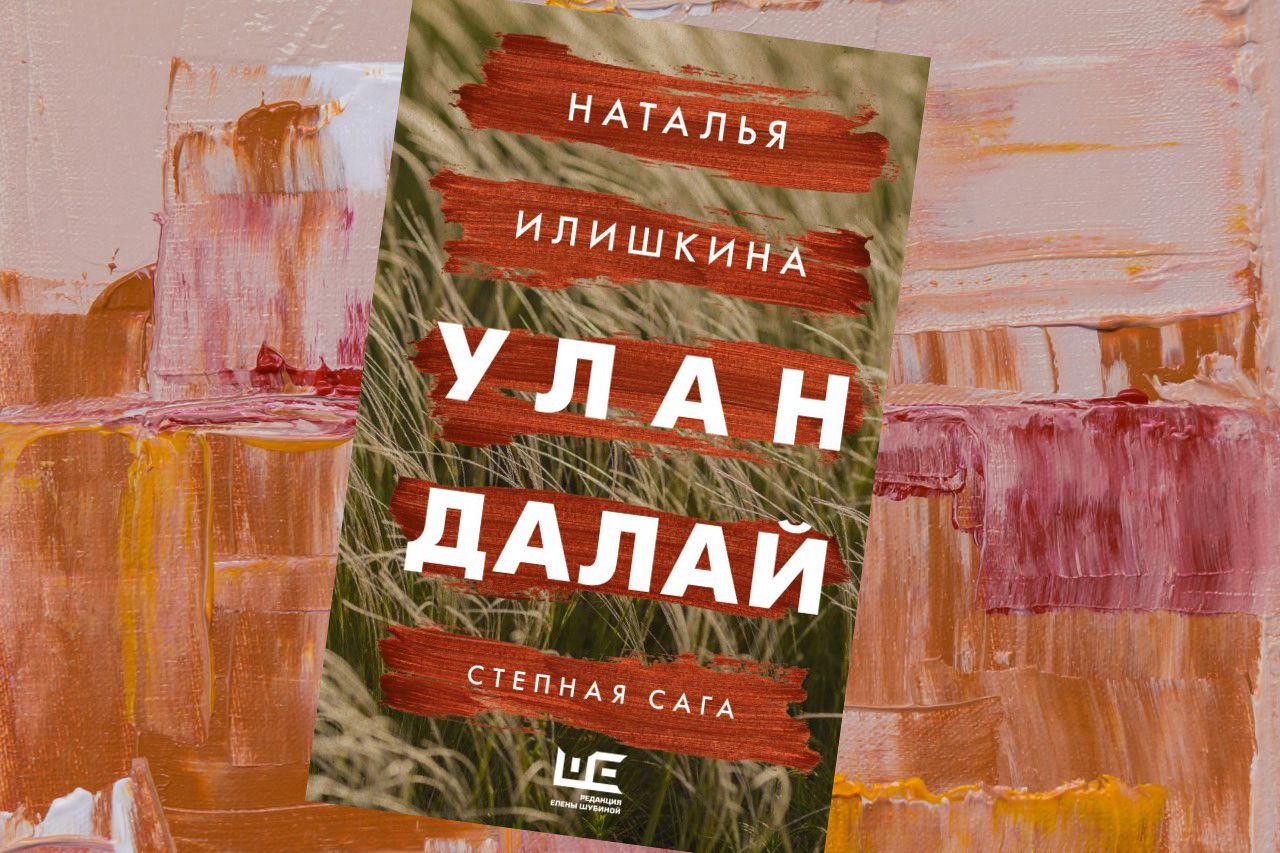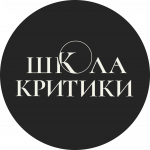
Текст: Кирилл Ямщиков
Наталья Илишкина. Улан Далай: Степная сага. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2023. – 638 с.
Фигура мифа – Старший Могильщик – появляется в романе уже на тринадцатой странице. Она близка исторической правде и в то же время фантастична, как любое представление о смерти. «Степная сага» начинается перевозкой мёртвых и живых – в единую неизвестность; но это лишь предвестие куда более затяжной и страшной поездки.
Три поколения семейства Чолункиных – обобществлённые горести калмыцкого народа в период с царствования Александра III вплоть до хрущёвской оттепели. От деда – Баатра, «хранителя древностей» с домброй в натруженных руках, до сына Чагдара и внука Иосифа-Александра. Ужас, память, тревога, калейдоскоп призрачных голосов и оглушительная тяжесть рассказываемого.

Красный океан – тот самый Улан Далай – как бы само время, несущее к истинам и заблуждениям. Море, стягивающее на дно безошибочно всех, забота лишь о движении: волны крови, оголтелая жестокость.
Водные метафоры, стоит заметить, привычны для эпоса: «Тихий Дон» омывает страдания Григория Мелехова, «Мост на Дрине» удерживает на плаву память балканцев, съеденных и покорёженных эпохой, а самый известный роман Мо Яня, «Красный гаолян», как бы обращает вспять трагедию далёкого прошлого, где есть только человек и бескрайнее, как море, поле гаоляна, испачканного чужими вздохами.
Роман Натальи Илишкиной читается безукоризненно серьёзно, хватко, как если бы мы, читатели, да и герои этих событий, были напрочь лишены чувства комического, которое сопровождает – в силу защитных реакций психики, – сумятицы века. Даже в безудержном кровословии «Тихого Дона» отыскивалось немало страниц, посвящённых забавам – жизни, любви, уюта, местечковой скабрезности.
Я бы сказал, что роман Илишкиной больше походит не на историческое повествование, а на представление о нём: срез голосов, мнений, интонаций, близкий хронике и в то же время далеко от неё уходящий. Таким была вышедшая четыре года назад «Высокая кровь» Сергея Самсонова, посвящённая Гражданской войне, такими, несомненно, являются «Оправдание острова» Евгения Водолазкина и «Крепость» Петра Алешковского.
Читая «Улан Далай», ни на секунду не забываешь о том, что его написала наша с вами современница, человек культуры «после» модерна. Вместо мифа у неё – элементы мифического: заговоры пространства, ритмические повторы («шар-шар», «таш-баш»), бесчисленные упоминания божеств – где можно и где нельзя; проще говоря, ловкая и не то чтобы тайная стилизация, вполне уместная в рассказе о событиях, очевидцем которых Илишкина быть никак не могла.
Серьёзность, прямота, хмурость, с которой «Улан Далай» разворачивает перед нами свою внутреннюю хронологию, напоминает о модернистских фундаментах Фолкнера и Шолохова. Вот это нащупывание проводков, нервных окончаний, по которым бежит, шипя, ток воспоминания – страстной, безжалостной ретроспективы, – и связывает столь непохожие друг на друга тексты.
Баатр, старшина рода, важен здесь менее остальных; подлинное внимание приковывает Чагдар – гражданин порубежья, модернист по крови, оставшийся, на первый взгляд, там, у семейных молитв и чаяний, а затем порвавший с наследственностью, уехавший в Петербург – ради большой науки и хоть какого-то будущего, – ставший, в конце концов, мучающимся, страдающим, алчущим Исполнителем надмирной (читай, державной) воли.
Он точь-в-точь фолкнеровский Квентин из «Шума и ярости», рассуждающий о жизни так, будто она, неуёмная, дарована ему авансом, с требованием суровой и своевременной отплаты. Он, считающий наручные часы – по завету отца – «гробницей всех надежд и устремлений», благодарит мир за каждую прожитую минуту и норовит сделать больше, чем отмерено, чем позволено; норовит вырваться из контуров тени.
Чагдар, как мне думается, главная удача – и ключевая находка этой громадной саги; герой бесшабашно конкретный, живой и до того строптивый, что не позволяет определиться. Его судьба неминуемо странна и типична, чужеродна и знакома; так касается нас воспоминание на самом краю тёплого летнего сна. Неудивительно, что именно Чагдара авторская воля окружила титанами – Николаем Яковлевичем Марром, что «бегло говорил на десятке языков», и Агваном Доржиевым, буддийским ламой с судьбой провидца.
В самом деле: «Улан Далай» хорош ровно тогда, когда уходит из-под внимания автора – и становится вещью-в-себе, бродячим сюжетом, где легко могут сойтись «новое учение о языке» и коллективизация, богиня Тенгри и мёртвые младенцы. Этот роман опосредованно близок современной романистике – о некоторых ассоциациях я написал выше, – и поистине близок модернистской стройности ушедшего века, где серьёзность редко считывали за наивность.
Не ищите здесь кокетства, подмигивания актуальному или, чего хуже, шаловливой декоративности; не ищите ничего, кроме честной, выпестованной истории одного простого семейства, которому – волей случая – приходится столкнуться с вещами, которым до сих пор нет названия.
Горечь? Ужас? Мытарства?
Всё это – только симптомы.